“His writing is not about something; it is that something itself” Samuel Beckett
День
Началось это так.
2 февраля 1882 года в городке Рэтмайне (совсем недалеко от Дублина) в семье налогового служащего Джона Джойса родился мальчик, которого окрестили Джеймсом. Благополучная поначалу семья постепенно беднела, что, конечно, сказывалось на жизни детей — Джеймса и его брата Станислава, «Станни». Квартиры делались все менее просторными и с каждым годом удалялись от центра, а места учебы все менее престижными. Сначала — закрытый иезуитский пансион Клонгоуз Вуд (1888, Джойсы еще жили хорошо); уже в 1891 — «Школа христианских братьев», а потом и знаменитый Бельведер Колледж. По счастливому стечению обстоятельств, Джеймсу помог попасть туда бывший ректор пансиона Клонгоуз Вуд отец Джон Конми, тот самый, о котором говорится в «Улиссе»: «Начальник дома, высокопреподобный Джон Конми, сойдя по ступенькам своего крыльца, опустил плоские часы обратно во внутренний карман».
Именно иезуитские учебные заведения (и позже — Дублинский католический университет) сформировали то интеллектуальное пространство, которое спустя некоторое время «произвело на свет» Джойса-писателя. Автора «Дублинцев» (сборник рассказов), «Портрета художника в юности» (роман), «Улисса» (роман?), «Поминок по Финнегану»(???) — но лучше по-английски, «Finnegans wake», потому что никто не знает, как это правильно переводится.
Метафора пространства здесь очень важна: она позволяет выявить основные характеристики джойсовского мира — особой территории, организуемой техникой декупажа. В этом пространстве причудливо переплелись Аристотель, Фома Аквинский, средневековые мистики, богословы, ересиархи, медицина и музыка, еврейская Каббала и «Упанишады». Оно размечено латынью и греческим (потом к ним добавятся еще несколько десятков языков); там, словно в алхимическом тигле, сплавляется множество цитат, сходятся и расходятся траектории и маршруты, совпадающие и не совпадающие с топографией Дублина, по которому циркулируют сотни персонажей, свободно перемещаясь из «Дублинцев» и «Портрета» в «Улисс» и «Поминки».
Благодаря своему особому образованию (ирландская религиозная догматика, рационализм в духе Аквината и фетишистский культ Богоматери) Джойс метался между духом и телом, Церковью и борделем. Его приятель дублинской поры Оливер Гогарти сочинил про него забавный стишок: «Юный Джойс очень набожен был, Он прислуживать в церкви любил И во всех бардаках Пел псалмы как монах и со шлюхами В рай восходил»3.
В начале ХХ века (то есть уже студентом) Джойс ведет полубогемный образ жизни. Много читает, едет изучать медицину в Париж (но терпит неудачу), часто ходит в театр. Даже открывает в Дублине кинотеатр, который, правда, быстро прогорает. Любит торчать в пабах («В Ирландии вообще и Дублине в частности, — говорит один путеводитель начала века, — есть только два главных места: церковь и паб»), посещает бордели (см. стишок выше) и попадает во всякие переделки. Об одной из них, наверное, стоит рассказать. Летом 1904 года Джойс решил приударить за некой девицей, которая терпеливо дожидалась своего кавалера. Последний появился в самый неподходящий момент и, смекнув, в чем дело, изрядно намял бока будущему классику. Побитому Джойсу помог встать и отряхнуться некто по имени Альфред Хантер — один из прототипов главного героя его будущего романа. Про него мало что известно. Говорят, ему изменяла жена.
Потом, уже в Триесте, Джойс вспомнит об этом событии, собираясь писать небольшой рассказ, который назовет «Улиссом» («эмбрион» будущего романа). И решит, что оно произошло 16 июня.
Скажем сразу: множество событий жизни Джойса оказались притянуты к этому дню, как притягиваются к магниту металлические стружки. Слишком была высока энергетика создаваемого текста, который в каком-то смысле деформировал временные структуры жизни автора, романа, и, может быть, времени вообще.
16 июня 1904 года — самый долгий день в жизни Джойса и, заодно, во всей истории литературы. День начинается в 8 утра, но невозможно сказать, когда он заканчивается. Может, заполночь, а может, простирается дальше самого времени, и его окончание теряется в глубоком прошлом (потому что время не обязательно идет только вперед — у Джойса оно может двигаться и в обратном направлении). Этот день длится 549 страниц — по крайней мере, в русском издании 1993 года, первом русском издании «Улисса». Или целый год, 1989, когда роман печатался в 12 номерах «Иностранки». (Джойс любил мистику чисел — чувствуется, опять же, иезуитское образование — и наверняка порадовался бы такому удачному совпадению).
Что же произошло в этот день, получивший название по имени одного из главных героев — Bloom’s day? Первое событие имеет, скорее, отношение к истории Ирландии: приезд английского вице-короля и торжественная литургия по этому поводу («Вот они, оккупанты-англичане!» — Джойс-патриот). Следующее — к личной истории Джойса. В этот день произошло его второе («На первое она просто не пришла» — Джойс-любовник) свидание с Норой Барнакл, горничной дублинского отеля «Финна» («В этом же году она станет его женой, и они вместе уедут за границу» — Джойс-изгнанник). Третье событие относится к истории литературы («И самого романа» — Джойс-писатель): два главных героя романа — Стивен Дедал и Леопольд Блум — каждый по своей причине уходят из дома. Один — поссорившись со своим приятелем Быком Маллиганом — «Сановитый, жирный Бык Маллиган возник из лестничного проема, неся в руках чашку с пеной, на которой накрест лежали зеркальце и бритва» — он же Оливер Гогарти, автор вышеприведенного стихотворного опуса. Другой работает рекламным агентом, а по утрам они обычно уходят на работу. Однако, есть и иной повод… К жене Блума, актрисе Молли, должен прийти любовник. Поэтому из дома надо уходить…
Если искать параллели, а в случае с Улиссом это совершенно верная тактика, то надо признать, что Стивен — несчастный гонимый художник — это сам Джойс, хотя сходство здесь не может быть полным. У Стивена, как и у Джойса, недавно умерла мать, однако мать Джойса умерла немного позже, ближе к осени. В сентябре Джойса, у которого в Дублине не было ни своего угла, ни денег, пригласил пожить к себе в башню под названием Мартелло (военное сооружение, самая настоящая башня с бойницами и узкими переходами, сдававшаяся в мирное время за 8 фунтов в год) его приятель Оливер Гогарти. Именно тогда произошла ссора, после которой Джойс-Стивен покинул дом своего уже бывшего друга…
Что касается Леопольда Блума, то, не считая Альфреда Хантера (о котором уже говорилось), нет необходимости перечислять друзей и знакомых Джойса, чье присутствие ощущается в этом образе.
Итак, роман об уходе из дома и о возвращении Домой (первое не равно второму, и Стивен больше никогда не вернется в башню Мартелло): два человека кружат по городу, чтобы уже ближе к ночи встретиться при вполне банальных обстоятельствах (Блум поможет сильно подвыпившему Стивену выбраться из борделя, немного отряхнуться, привести себя в порядок — «Перво-наперво мистер Блум смахнул основную массу стружек, вручил Стивену шляпу с тросточкой и вообще, на манер доброго самаритянина, постарался его подбодрить...» —
и отведет к себе домой, на Экклс-стрит, 7, первый этаж).
Чтобы понять этот роман, надо понять само движение, в основании которого лежат все виды одиночества и отчаяния, какие только может испытывать человек в своей жизни (неудовлетворенность домом, работой, ссоры с женой, да и мало ли что еще). Уход из дома и кружение по городу мы могли бы обозначить словом «блумизм», по имени главного героя: главное — не иметь никакой определенной цели. Иначе игра не состоится, и роман остановится.
Тем не менее, смысл в этом — на первый взгляд чисто броуновском — движении все же есть. Но он не понятен ни героям романа, ни, подчас, самому читателю. Дело в том, что в романе действует еще один персонаж, невидимый, но постоянно присутствующий. От него осталось только имя, но оно стоит на самом видном месте — в заглавии. Это Улисс, или, в более привычной для русского читателя транскрипции, — Одиссей. Древнегреческого героя (возможно, имевшего семитские корни, поэтому Улисс-Леопольд Блум еврей) Джойс любил больше остальных персонажей мировой литературы. Почему? Об этом однажды сказал он сам: «Фауст не только не имеет полноты человечности, но вовсе не человек. Стар он или молод? Где его дом, семья? Ничего этого мы не знаем… Гамлет — да, Гамлет — человеческое существо, однако он только сын… А Улисс — сын Лаэрта, отец Телемаха, муж Пенелопы, любовник Калипсо, соратник греческих бойцов у стен Трои и царь Итаки… И еще, не забудьте, он — симулянт, пытавшийся уклониться от воинской службы… Но, попав на войну, он идет до конца <…>. И потом, он был первым джентльменом в Европе. Когда он вышел голым навстречу юной принцессе, то скрыл от девичьих глаз существенные части своего просоленного тела».
Итак, 16 июня 1904 года в Дублине разыгрывается спектакль о возвращении Одиссея, но эпоха уже давно не героическая. Вместо вызова на дуэль, как в предыдущем столетии, или кровавой резни, как у Гомера, герой уходит из дома. Поневоле возникает ассоциация с Пушкиным, ровесником Блума, но эта история, как мы знаем, была совсем иной. Совершив путешествие во времени, пережив множество аватар, Улисс превращается в 38-летнего рекламного агента, страдающего от измен своей жены Молли (растерявшей супружескую верность Пенелопы), Телемах — в депрессивного Стивена, мудрый старец Нестор — в туповатого директора школы, где Стивен преподает историю, Навсикая — в незнакомую девушку на пляже, голова которой забита модными журналами и бульварным чтивом, а волшебница Цирцея — в Бэллу Коэн, содержащую публичный дом на Тайрон-стрит, 82 (где во времена своей дублинской жизни часто бывал сам Джойс). В конечном же счете главная тема «Улисса», которая определяет бесконечные хитросплетения текста, — встреча Отца и Сына. Встреча условная, как и все совпадения романа (скорее, ее можно расценивать как встречу двух незнакомых людей), мимолетная. Но в какой-то момент происходит это невероятное совпадение: Блум, точно так же, как Одиссей, обретает своего сына (его собственный сын Руди умер во младенчестве), а Стивен — символического Отца.
В некотором смысле парадокс Улисса — это парадокс определенного зрения, которое позволяет увидеть за одним лицом другое, за бессмысленным хождением по городу — древнюю историю о царе, возвращающемся домой после долгой изнурительной войны. Но пространство, по которому у Гомера скитается Одиссей сотоварищи, в романе сжимается до одного города, а многолетнее возращение домой — до одного дня. Один текст подражает другому, но не эпигонски, а с помощью соответствий, имитируя исходный текст на каком-то ином уровне. Уплотнение, сгущение времени-пространства, имитация, мимесис — механизмы романа. Из-за этого все, что попадает в пространство «Улисса», деформируется, день длится 549 страниц. Но можно ли прочитать этот роман за один день, даже читая без остановки с утра до вечера? Французские классицисты, для которых происходящее на сцене должно было равняться происходящему в реальности, объявили бы Джойса безумцем.
Помимо перемещения героев по Дублину, которое в той или иной степени повторяет странствия Одиссея (сходство здесь неполное, иногда Джойс следует за Гомером больше, иногда меньше; его «Улисс» — ни в коем случае не римейк «Одиссеи»), есть еще одно движение, может быть, самое важное — движение языка. От начала к концу романа письмо меняется, взрослеет, становится более изощренным и напряженным. («Джойс любил сравнивать работу над литературным произведением с вынашиванием ребенка» — Джойс-медик). Вместе с хронологическим движением от утра к вечеру, движением из одной части Дублина в другую происходят бесчисленные трансформации языка, которые охватывают всю его историю. Говорят, «поэзия — это насилие над языком». Но можно сказать, что такого насилия, которое совершил Джойс, никто до него еще не совершал. За один день язык Улисса проходит путь от староанглийских и ирландских хроник до современного скабрезного трепа пьяных студентов-медиков в финале 14 эпизода «Быков Гелиоса». Действие здесь происходит в родильном доме: быки — символ плодородия. У Гомера спутники Одиссея убивают быков, у Джойса пьяные студенты своими циничными разговорами убивают тайну деторождения.
Язык движется от:
«И Леополд боярин иже бе муж честен паче всих гостей иже неколи седяху за трапезою премудрых и бе кроток и благ паче всих иже неколи под куры владычну руку соваху и бе поистине верен паче всих иже неколи служение госпоже благородней воздаяху чашу свою учтиво за здравие его осуши»
(здесь Леопольд Блум предлагает выпить за успешное разрешение от бремени, кому — непонятно)
до:
«Слышь чо талдычу? В пивнуху-потаюху. Там залейся. Ушвоил, шудырь. Бэнтам два дня без капли. Он клялся пить одно бордо. Хряй к ляду! Гли сюда, ну. В бога, чтоб я подох. Надрался и накололся. До того бухой ни бумбум.<...> Эй, ты, замри! Кто там, засуньте ему сапог в хлебало…»
Такое «многоголосие» романа — словно в фуге Баха — является парадоксом «Улисса», благодаря которому сглаживается разрыв между изображением вещи и самой вещью, жизнью и произведением искусства. Этим роман Джойса напоминает кинематограф, который, на первый взгляд, наиболее точно воспроизводит реальность — хотя насколько то, что мы видим на экране, «реалистично»?
Стремление к сверхреалистичности объясняет некоторые особенности романа Джойса. Например, топографическую точность, невероятно подробную фиксацию всяких урбанистических нюансов. Недаром бедеккер «Весь Дублин за 1904 год» почти целиком вошел в роман. По этому поводу Джойс с удовлетворением говорил, что, если Дублин исчезнет с лица земли, его можно будет восстановить по «Улиссу». Роман наполнен огромным количеством деталей, точными названиями улиц, пивных, контор, газетных редакций, родильных домов, борделей. В нем досконально описаны передвижения героев, которые всегда точно совпадают со временем, необходимым, чтобы попасть из одного места в другое.
«Довольный сделкой, которую он заключил для фирмы Пулбрук и Робертсон, мистер Кернан гордо вышагивал по Джеймс-Стрит, направляясь от солнечных часов к Джеймс-Гейт, мимо конторы Шеклтона».
За полвека до этого Достоевский так же высчитывал количество шагов, которое должен сделать Раскольников, чтобы дойти до двери злополучной старухи.
Точность, которая выплавлялась в недрах реалистического романа, усиливается невероятной словесной изобразительностью. Слова у Джойса не описывают то, что происходит, а воспроизводят это на уровне самой речи, построения фразы. Например, в эпизоде «Циклоп», где бедняга Блум (еврей, чужак) попадает в Кабачок Барни Кирнана (реальное место в Дублине, где любили собираться ирландские националисты), проза становится многословной, совершенно неуклюжей, тяжко-громоздкой, как и сам циклоп Полифем. Вот как описывается соответствующий в романе Полифему некто «Гражданин», глава компании фениев:
«Фигура, сидевшая на гигантском валуне у подножия круглой башни, являла собою широкоплечего крутогрудого мощночленного смеловзорого рыжеволосового густовеснушчатого косматобородого большеротого широконосого длинноголового низкоголосого голоколенного стальнопалого власоногого багроволицего мускулисторукого героя».
Слова (гомеровски построенные) оказываются растянуты — как «растянут» циклоп Полифем. Точно так же фразы, которые описывают перемещения героев, имитируют дублинские сходящиеся, расходящиеся и пересекающиеся улицы.
О кинематографичности прозы Джойса можно написать много, не случайно он был увлечен фильмами Эйзенштейна. Джойс даже как-то сказал, что Эйзенштейн — единственный режиссер, который смог бы поставить фильм по «Улиссу»; а Эйзенштейн хотел было экранизировать «Капитал» Маркса, используя литературную технику Джойса (но Сталин не одобрил этой идеи). Они, Эйзенштейн и Джойс, однажды встретились — между 29 ноября и 3 декабря 1929 года. К этому времени Джойс уже почти ослеп, но все же ему захотелось увидеть отрывки из «Броненосца Потемкина» и «Октября». Вспоминая об этой встрече, Эйзенштейн назвал ее «призрачной», потому что в комнате, где они встретились, было так темно, что оба напоминали тени. (После мучительных операций Джойс, по требованию врачей, должен был подолгу сидеть в затемненной комнате, почти как в кино).
И сам роман напоминает кино или сон; а может, эти два понятия схожи, и одно трудно отделить от другого? Связь между кино и сном очевидна: человек неподвижно сидит в темном зале, захваченный тем, что происходит на экране, потеряв счет времени и утратив ощущение реальности — поэтому люди, жующие поп-корн и разговаривающие друг с другом во время сеанса, раздражают не меньше, чем те, кто мешает спать. И у джойсовского романа есть подобная особенность. Книга обладает такой плотностью, что от нее трудно оторваться. Роман трудно читать в метро. Он требует тишины и уединения, задействуя зрение не чтобы читать, а чтобы видеть то, что написано; слух, чтобы слышать то, что написано. «Улисс» требует полной сосредоточенности, включенности и вообще претендует на то, чтобы создать самодостаточный, замкнутый мир (за пределами которого, как и за пределами киноэкрана, ничего нет), который стремится полностью подчинить себе читателя, заставить его забыть о времени и других книгах. Джойс хотел, чтобы и «Улисс», и особенно его следующий роман, «Finnegans wake», заменили собой всю литературу, оторвали человека от всех его занятий и мыслей (и в кино во время просмотра фильма невозможно заниматься чем-то еще — если, конечно, ты его действительно смотришь).
Помимо этого, в романе есть один совсем уж «киношный» прием, который, как мне кажется, лежит в основании всего здания «Улисса». Это прием «наплыва», когда на экране неожиданно начинает просвечивать какой-то иной план — два разных изображения накладываются друг на друга или одно из них, проступая, полностью вытесняет собой другое. Подобное совмещение кадров — например, в фильмах Хичкока и Фрица Ланга — позволяет ассоциативно связывать объекты или персонажей (когда двое говорят о третьем, и его лицо проступает в воздухе). Современными теоретиками кино этот прием рассматривается как аналог механизма сгущения, т.е. механизма работы бессознательного, который был описан Фрейдом в «Толковании сновидений». «Сгущение» во фрейдовском психоанализе (Джойс, конечно, читал Фрейда, и, хотя он оставил о нем множество саркастических замечаний в «Улиссе», Фрейда в романе очень много) — это соединение несоединимого, как на картинах Пикассо. Во сне оно не вызывает никакого удивления, и кажется привычным в кино. Это сложное сочетание подмен, уходов, уловок, когда одна картина внезапно превращается в другую. Например, во сне может появиться персонаж, составленный из черт разных людей; точно так же Леопольд Блум — это и Улисс, и дублинский рекламный агент, и Альфред Хантер, и друг Джойса писатель Итало Звево, а еще — Авраам, тень отца Гамлета и другие всевозможные «отцы». Сгущение — главный прием Джойса, благодаря которому Леопольд Блум подобен Улиссу, но остается Блумом, и только на какое-то мгновение в его чертах проступает лицо повелителя Итаки. Так, словно во сне, история Одиссея собирается по частям.
Игра подобий, повторений, установление вневременной связи в действительности помогает Джойсу обозначить проблему (которую так и не помог решить дневной свет) истории — движения, раскручивающегося по спирали времени. Все события там уже произошли; вся настоящая жизнь — лишь повторение уже когда-то сыгранных спектаклей и исполненных ролей. Для Джойса история — дурная бесконечность, «сон, от которого необходимо пробудиться», мелькание бесчисленных воплощений, представляющих собой бесконечный регресс и ничего более. Во сне человек может увидеть себя путешественником, воином или соблазнителем. Это часто происходит с каждым из нас, оставляя недоумение: почему приснилось странное лицо, которое никогда раньше не видел; странный человек, одетый в диковинные одежды. Глубокой ночью спящий человек может быть кем и чем угодно.
Роман подходит к концу. Петлявшие весь день по городу герои, наконец, встречаются. Две изменчивые траектории на мгновение совпали. Все осталось позади, и глубокой ночью Леопольд Блум приводит Стивена — после странствия по городу, времени, языку, реинкарнациям — к себе домой, где спит Молли, неверная дублинская Пенелопа.
После недолгого пребывания в доме Блума Стивен, выпив чашку какао, уходит в неизвестном направлении. Линии опять расходятся — вероятно, навсегда. Блум занимает место в кровати рядом со своей женой, которая лежит в направлении восток–юго-восток, а Блум — в направлении запад–юго-запад.
Она:
«...полулежа на боку, левом, левая рука под головой, правая нога вытянута по прямой и покоится на левой ноге, согнутой в позе Матери-Геи, исполнившаяся и возлегшая, груженая семенем»
Он:
«...лежа на боку, левом, правая и левая нога согнуты, большой и указательный пальцы правой руки на переносьи <…> усталое дитя-муж, мужедитя в утробе».
Поза, в которой засыпают герои Улисса (говоря по-русски, «валетом»), тоже оказывается глубоко символичной. Мужское и женское предстают не в виде враждующих полов, а в виде нераздельного единства. Абсолютной симметрии, как на игральной карте, где то, что вверху, не может быть отделено от того, что внизу; или как в знаке «тай-цзи» («великого предела»). Извлеченный сном из бесконечного лабиринта дублинских улиц, городских событий, Блум погружается в иной мир. Там закручивается новая спираль истории — или кинопленка с отснятыми на ней всевозможными событиями и лицами делает новый виток, может быть, обрываясь или заканчиваясь, после чего воцаряется полная темнота.
Наступает сон. А для Джойса бесконечный залитый светом день Улисса превращается в непроглядный сумрак «Поминок по Финнегану».
1 Самуэль Беккет (Samuel Beckett) (1906–22.12.1989) — ирландский писатель, нобелевский лауреат 1969 года. В 1955 внимание критики и зрителей привлекла трагикомедия Беккета «В ожидании Годо». Беккет родился в Ирландии, был секретарем Джойса, а впоследствии жил во Франции.
2 decoupage — словечко из кинематографического словаря, означающее одновременно «выделение», «вырезание» (части из целого) и «разрезание на части».
3 Этот стишок, как цитаты из «Улисса» и некоторых других текстов Джойса мы даем в переводе Сергея Хоружего, переведшего беспрецедентно сложный роман Джойса на русский язык. История перевода этого романа на русский язык — одиссея не хуже гомеровской (или джойсовской), и вообще все что связано с эти текстом, оказывается по какому-то странному закону связано с бесконечными мытарствами, ожиданиями, неудачами и самыми разными формами сопротивления, словно сама история вхождения этого текста в культуру текста имитирует то, что происходит с его героями. Однако рассказ о переводческой одиссее это уже совсем другая история, и о ней лучше всего расскажет сам С. Хоружий в своих примечаниях к роману и книге «”Улисс” в русском зеркале».
4 Мимесис — подражание, воспроизведение. Термин появился в Древней Греции и там же считался главным принципом деятельности художника.
5 Бедеккер — фамилия популярного издателя путе-водителей. Здесь используется в нарицательном смысле.
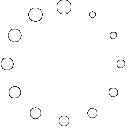
— Комментарий можно оставить без регистрации, для этого достаточно заполнить одно обязательное поле Текст комментария. Анонимные комментарии проходят модерацию и до момента одобрения видны только в браузере автора