Легенда о рождении «Казановы Феллини» (1976) рассказана самим режиссером неоднократно и общеизвестна. Дескать, Феллини, не задумываясь, подписал контракт на экранизацию мемуаров великого соблазнителя и авантюриста восемнадцатого века. Когда же прочитал книгу, в которую до тех пор не заглядывал и которую ошибочно считал чем-то чувственным, азартным, смачным, то пришел в ужас. Книга напомнила ему «телефонный справочник» — механическое, пустое, свободное от рефлексии и элементарной связанности перечисление соитий ее автора. Хотя, замечу в скобках, «телефонный справочник» — не оскорбление: Эйзенштейн, например, мечтал его экранизировать, наряду с «Капиталом» Маркса, а Сельвинский сделал сюжетной пружиной поэмы. Сам же Казанова показался Феллини «фашистом». Тогда-то режиссер и решил снимать фильм об абсолютной пустоте, не о людях, но о куклах. Сказано — сделано, хотя и с отвращением. Подразумевается, что, называя Казанову фашистом, Феллини имел в виду его отношение к женщинам, в которых сексуальное чудовище видело не людей, а манекенов для совокуплений. Право же, такой упрек странно звучит в устах Феллини, который к женщинам на экране относился по-человечески только тогда, когда их играла Джульетта Мазина, принадлежавшая, скорее, к типу травести. И если надо, не задумываясь, найти пример действительно фашистского отношения к женщинам, то «Город женщин» Феллини, пожалуй, даст сто очков вперед «Мемуарам» Казановы. Безусловно, позиция Феллини во многом определялась страхом перед женщинами, в католической культуре выступающими в роли либо матери, либо шлюхи; но не возненавидел ли режиссер Казанову именно за то, что тот подобного страха не испытывал? Да и в основе ненависти слишком часто лежит именно страх. В мире Феллини практически нет такой категории женщин, как «любовница». Для Казановы же все женщины — любовницы, он — дитя вольнодумного и распутного века, свободный от морока католического христианства, от которого сам Феллини так и не смог избавиться. Поэтому и обрекает его режиссер на жестокое испытание: тащить на себе, сгибаясь под тяжестью накрашенной туши, случайно встреченную в странствиях по европейским пустыням мать.
Вместе с тем, фильм называется не «Казанова», а именно «Казанова Феллини». Так до тех пор режиссер маркировал лишь фильмы «от первого лица», посвященные вещам, для него, безусловно, дорогим и близким — будь то «Рим Феллини» или «Сатирикон Феллини». После «Казановы» ни один из его фильмов не нес в своем заглавии столь интимной интонации. Зачем же режиссер так открещивался от него, так извращал соотношение замысла и результата (об этом — ниже), стоит спросить у него самого, попозже, на небесах.
Поверить в вымученность «Казановы» тем более непросто, что вымученный фильм по определению не мог бы стать основоположником целого кинематографического направления. А «Казанова» — краеугольный камень того, что можно было бы назвать «искусственным» кинематографом 1980–90-х годов. Дело в том, что с завершением эры классического кино и взлетом кино «авторского», модернистского, едва ли не главным критерием в «киномысли» стало соотношение экранных теней и реальности. С легкой руки Андре Базена мейнстримом в кино стало то, что максимально соответствует представлению об «онтологическом реализме кинематографа»: итальянский неореализм, японские мэтры, французская «новая волна» и ее бесчисленные клоны во всех странах мира, политический фильм, американский андерграунд.
Первой же вызывающе «антиреалистической» реакцией на деспотию реальности стал, очевидно, кинематографический поп-арт в своих разрозненных проявлениях. Поп-арт одновременно был и вещной средой, эстетическим контекстом сексуальной революции конца 60-х. Когда кинокритика видела в «Казанове» памфлет, направленный против сексуального освобождения, живописующий опустошенность гедонистического мира, «мира после оргии», как сказал через несколько лет Бодрийар совсем по другому поводу, грусть животных после совокупления, — доля истины в этом была. Честно говоря, Феллини, скорее всего, было наплевать на «опустошенность» вволю натрахавшейся молодежи. И кто-кто, но он менее других мог бы осуждать гедонизм. Но снять фильм, целиком и полностью посвященный сексу, действительно стало возможным только после сексуальной революции. В историческом контексте «Казанова» стоит в одном ряду с такими современными ему фильмами, как «Империя чувств» Нагиси Ошимы, «Сладкий фильм» Душана Маковеева, «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи. И в выморочных синем, фиолетовом, черном цветах фильма явственно ощущается отсвет только что закатившегося поп-арта, а не одних лишь красок венецианского карнавала.
Принципиально важным было и то, что действие разворачивается в восемнадцатом веке, доселе никак концептуально кинематографом не осмысленном, бывшем, в лучшем случае, фоном для фильмов «плаща и шпаги». Именно «Казанова» — первый камень в фундаменте мифа о Веке Просвещения, бум которого приходится на наши дни. Все эти «Дочери короля», «Планкетт и Маклейн», «Распутник», «Маркиз Де Сад», «Перья маркиза Де Сада» и прочая, прочая, прочая своим рождением обязаны именно фильму Феллини. Именно он смешал удушливый коктейль из пудры и спермы, именно он определил целую эпоху европейской культуры как пир перед чумой. Образ восемнадцатого века на долгие годы запрограммирован как образ даже не тления, но смерти. Несмотря на то, что, если судить объективно, именно из него вырастает все новое время, его восприятие теперь — это пряная смесь восхищения перед праздностью аристократии, к потомкам которой кинорежиссеры, безусловно, не относятся; тайной радости от того, что скоро все эти напудренные головы покатятся под ножом гильотины; и, наконец, порнографического вуайеризма, который так легко оправдать «двусмысленностью» эпохи (как будто бы существуют эпохи однозначные), и который был абсолютно чужд Феллини, посчитавшего в «Казанове» именно вуайеризм одним из главных грехов.
Первый же «сексуальный» эпизод фильма — спаривание между ряженым в птичий костюм Казановой и ряженой монахиней — спектакль для одного зрителя, влиятельного покровителя распутницы, подсматривающего сквозь отверстие в стене. Молчание обладателя этого птичьего глаза — одно из самых жестоких унижений, которое предстоит перене-сти Казанове, пытающемуся воспользоваться шансом и предстать перед сильным мира сего в роли не только сексуального клоуна, но и поэта, алхимика, изобретателя. Вторая по жестокости сцена — соревнование в сексуальной мощи между интеллектуалом Казановой и мужланом-конюхом. Опять-таки спектакль, на этот раз уже для многочисленного светского общества вуайеров.
Именно восемнадцатый и позднее присоединенный к нему семнадцатый века стали излюбленным полем для игр тех, кто может быть отнесен к элите «искусственного» кинематографа 1980–90-х гг. — прежде всего, Питера Гринуэя и Дерека Джармана, хотя эпигонов и у них достаточно. В то же время при сравнении прообраза, «Казановы», и какого-нибудь «Дитя Макона» Гринуэя или «Караваджо» Джармана возникает ощущение неловкости. Если заострять проблему, к вящему неудовольствию пок-лонников английских режиссеров (среди них, как замечено, много искусствоведов и парикмахеров, но очень мало кинопрофессионалов), их произведения имеют мало отношения к кинематографу. Мир Джармана — безвоздушный, с действием, вынесенным на авансцену, как на театральных подмостках. А фильмы Гринуэя больше всего напоминают дорогие, на глянцевой бумаге, альбомы с репродукциями барочной живописи. Зритель не смотрит фильм, а перелистывает его. И в этом ему полностью потворствует камера, которая никогда не позволяет себе уйти в глубь кадра, предпочитая продольные движения. Между тем, одной из аксиом профессии считается, что киногеничность экранного пространства определяется его глубиной. Страсти героев Гринуэя и Джармана можно воспринимать лишь «в кавычках»: они словно придуманы гуляющими для пущего правдоподобия по экрану куклами, которым очень хочется быть живыми.
«Казанова» Феллини тоже может показаться вполне «искусственным», если не «мертвенным». Но только на первый взгляд. Да, первый же эпизод карнавала задает маскарадную интонацию фильма. Да, тряпичные волны (задолго до «И корабль плывет») словно глумятся своей пляской над самой возможностью гибели всерьез, в океанской пучине или в «пучине страсти». Да, Казанова, натужно имитируя трудность побега, ползет по бутафорской крыше венецианской тюрьмы, прижимая к себе любезно оставленные ему тюремщиками часы с заводной птичкой, отмеряющие ритм любовных утех.
И сами утехи навязчиво лишены любого намека на чувственность, на телесность, сведены к физкультурным упражнениям: партнеры уподобляются пресловутой птичке, размеренно входя друг в друга и так же выскакивая, в ритме, вовсе не свойственном живым организмам. И апофеозом любовных похождений Казановы становится ночь, проведенная с прекрасной механической женщиной. Да и сам он, с неестественно высоким лбом Дэвида Сазерленда, более похож на создание безумного механика.
Но главное отличие Феллини от наследовавших ему адептов «искусственного» кинематографа в том, что он умел чудесным образом одушевлять своих кукол, наделяя их неподдельными чувствами, тем более драгоценными, чем они неожиданнее. Это чувства прекрасной модели, выбранной Казановой в качестве объекта демонстрации своих талантов на потеху общества: божественное безразличие почти на грани смерти от стыда и отвращения. Это чувства самого Казановы, который совершенно искренне тяготится ролью сексуального шута и рассматривает ее лишь как трамплин к признанию иных своих достоинств, о которых он не забывает ни в расцвете лет и славы, ни в униженной старости приживалы при вельможе, которого изредка демонстрируют гостям как реликт прекрасной эпохи, как улику бренности всего сущего. Это чувства и самого Феллини, который, едва ли не впервые, показал в «Казанове» дорогой ему мир балаганов и бродячих цирков как пустошь, почти что кладбище. И — как ни парадоксально это звучит — чувства механической женщины, зачаровавшей Казанову, на лице которой (фантастический пример режиссерского мастерства) никак не может читаться, но тем не менее читается светлое наслаждение.
Искусственный мир Феллини озарен такими неожиданными вспышками чувств. И этот мир ни в коем случае не лишен глубины. Да, Европа «Казановы» — страшный континент, ледяная безлюдная пустыня, по которой бесконечно движутся дилижансы, перенося героя от одной иллюзии к другой, от одного унижения к другому. Париж, Венеция, Рим, Лихтенштейн, Лондон или Гейдельберг — одна и та же ярмарка тщеславия, одна и та же пляска монстров, череда масок. Но это трехмерный мир, где возможно все, и если любовь и покой так и не случаются в нем, то это вовсе не означает, что их не существует в природе.
Книга напомнила ему «телефонный справочник» — механическое, пустое, свободное от рефлексии и элементарной связанности перечисление соитий ее автора
И в выморочных синем, фиолетовом, черном цветах фильма явственно ощущается отсвет только что закатившегося поп-арта, а не одних лишь красок венецианского карнавала
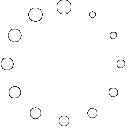
— Комментарий можно оставить без регистрации, для этого достаточно заполнить одно обязательное поле Текст комментария. Анонимные комментарии проходят модерацию и до момента одобрения видны только в браузере автора