
«— Мы не умеем жить, мы научились только умирать. — Разве этого мало? — Мало».
О чем этот фильм? О том, как 8 мая 1945 года Мачек Хельмицкий (сыгранный Збигневом Цыбульским), 24-летний боевик антифашистской и антикоммунистической Армии Крайовой, выслеживает в маленьком польском городке крупного партийного функционера Щуку, чтобы убить его и погибнуть самому? Ну да. Об абсурде гражданской войны, о людях, принесенных в жертву политическим амбициям? Скучные слова, но тоже справедливые. А если шире — о вековечном, бессмысленном и самоубийственном героизме поляков, ходивших в конном строю на немецкие танки? И об этом тоже. Что «Пепел и алмаз» — гимн террористам, реквием по проигравшим, непонятно каким чудом снятый бывшим АК-овцем Анджеем Вайдой в только начинающей оттаивать Польше? Еще бы. Роман Ежи Анджеевского на родине запретили, а фильм по нему стал визитной карточкой польского кино. Бывает.
Но достаточно увидеть самые первые кадры фильма, чтобы понять: все вышесказанное — не то. «Пепел и алмаз» вознесен в такие горние высоты, что конкретные обстоятельства польских разборок 1945 года кажутся каким-то муравьиным копошением.
Вспомните. Камера, зацепив на мгновение крест на церкви, ныряет вниз, к земле, к разомлевшим, пригревшимся на травке парням. Хорошо-то как. Еще одно движение камеры в сторону, туда, где аккуратно сложены «шмайсеры». Пора? Пора. Пошли стрелять коммуняк. Хладнокровный Мачек стряхивает с автомата муравьев, чтоб им неладно было, застывает на фоне неба на обочине, выпускает от бедра очередь за очередью по приближающейся машине. Смертельно раненый вбегает в церковь, дверь которой — чур меня, чур! — еще минуту назад была заперта. Пулевые отверстия на его спине обрастают фонтанчиками огня.
Идет война не между людьми. Между землей и небом.
Великие фильмы обладают свойством обнаруживать в себе множество ложных цитат, вернее, даже не цитат, а каких-то странных параллелей с другими фильмами. «Блоу ап» — «Неприятность с Гарри» Хичкока, «Blade Runner» — «Апокалипсис сегодня». В случае с «Пеплом и алмазом» количество таких визуальных рифм нарастает с каждым просмотром. Щука — один в один монструозный персонаж Орсона Уэллса из «Печати зла», снимавшейся в том же году, старая хромая туша, мающаяся в гостиничном номере, пока за стеной его юный палач снаряжает обойму пистолета. При всей своей партийной положительности и несомненном человеческом драматизме экранной биографии (единственный сын — в лесу, в АК-овском отряде), Щука почему-то вызывает неприязнь на физиологическом уровне. Неприятны его увечье, его трость, его манера слушать пластинки с испанскими революционными песнями, неприятен даже невинный патефон, нагло вылезший на первый план и загромоздивший и без того тесную комнату. Почему? Об этом чуть позже, отметим только, что эта неприязнь почти постыдна, а пока о других параллелях. Через клетку двора, в окне напротив Мачек видит рыдающую женщину, невесту случайно убитого им человека. Чем не «Окно во двор», незадолго до того законченное Хичкоком? И даже имя убитого партизанского командира Волка кажется не примитивным псевдонимом — наверное, в каждой герилье мира найдется вожак с такой кличкой — а цитатой из «Пайзы» (1946) Роселини, лучшего на земле фильма о войне. Там, по охваченной уличными боями Венеции металась молодая англичанка в поисках своего любовника Il Lupo («Волка»). Мы так и не увидели его, как и польского тезку, только узнавали от чуть ли ни рыдающих повстанцев, что все будет плохо, очень плохо, потому что утром убили Волка. В «Пепле и алмазе» тоже все становится необратимо плохо с того момента, как приходит весть о разгроме волчьего отряда.
Да и сам Мачек — живая цитата из еще не снятых фильмов, еще не воплотившегося будущего. Принято говорить о его вопиющей анахроничности среди польских руин. Кожаную куртку он, похоже, стащил с плеча Джеймса Дина или Марлона Брандо: интересно, где он оставил свой мотоцикл? Черные очки, джинсы, пластика (на полусогнутых — так бы к девушке подкатываться, а не из засады палить) танцора рок-н-ролла. Человек весны (попробуйте представить его в зимнем пейзаже, вряд ли получится), Мачек словно перепутал два мая, польский 1945 года и парижский 1968-го. Еще не существующий в реальности левак, студент Сорбонны или ликвидатор из «Красных бригад», был придуман именно Вайдой, выпущен им в реальность. При этом Мачек не прочь поиграть в ковбоя, щегольски носит трофейный автомат на плече дулом вверх, играет на стойке бара с заветной кружкой, видать, прошедшей с ним все военные годы. Да и сам бар похож на салун Дикого Запада. Накапливаясь, все эти детали создают ощущение какого-то временного сдвига — эпохи перепутались, как нити. Это почти гибсоновский мир, в котором архаика соседствует с футуризмом. Назад в будущее? И даже такая абсолютно реалистическая деталь, как проходящие по улицам советские войска, кажется просто вневременным знаком тотальной, вечной войны, которую ведет непонятно кто против непонятно кого. Если продолжать игру в ассоциации, то армейские колонны здесь почти так же неуместны, как танки на улицах города, где говорят на непонятном языке, в еще не снятом «Молчании» (1963) Бергмана.
Не только Мачек неуместен в окружающем его мире. Сам этот мир неуместен в окружающей его войне. Вайде, конечно, виднее, как все было в только что то ли освобожденной, то ли оккупированной Польше, как делили раздухарившиеся паны министерские портфели в заранее обреченном правительстве, как пили и как плясали. Наверное, так и пили, так и плясали. Но происходящее на экране все равно производит дикое, сюрреалистическое впечатление. Ведь ликующие то ли победители, то ли мародеры вместе со всей Польшей пережили шесть кошмарных лет, страдали, конечно, голодали, мерзли, их привычный мир бесповоротно разрушен. Но уничтоженный мир упорно уверяет, что он жив, выталкивает на первый план невозможные среди развалин доказательства своего существования. Стол на банкете в честь победы сервирован, как в добрые старые времена. И припасены фейерверки, которые распорют ночь в сцене убийства Щуки. И барышня в баре предложит: «Коньяк? Виски? Сигареты американские, или венгерские?». Смокинги и бабочки, как новенькие, выпорхнут из шкафов, отряхнет сундучный нафталин пошляк-конферансье. Вам вермут, как обычно, пан редактор? Ветераны халявы и журналистики будут пролезать на закрытые приемы, а старенькая горничная — начищать фамильную саблю под портретом Пилсудского. И на свой вопрос прохожий услышит, что Станкевичи живут все там же, где и шесть лет назад, за углом. И даже телефон работает без помех, а, расположив к себе старенького портье, тоже варшавянина, Мачек вполне может раздобыть номер без клопов.
Все эти детали слишком декоративны, чтобы быть реальными. Перед нами, скорее, декорация. В иллюзорном мире не хватает центра, не хватает Варшавы с ее цветущими каштанами, а в отсутствии центра мир может быть только капканом, только ловушкой. Декорации исчезают, когда Мачек, целясь не столько в Щуку, сколько в зрителей, нажимает на спусковой крючок: остается только черный фон за его спиной. А пустота, кроющаяся за декорациями, смертельно опасна: именно она, а не пуля патруля, убьет Мачека, и он, вырвавшись из декораций, окажется в реальном пространстве смерти, там, где сохнут во двориках белоснежные простыни, от которых будет уже не отстирать кровь террориста, там, где простирается бесконечная свалка, на которой будет выть в агонии, съежившись в позе эмбриона, пришелец из будущего. Свалка — вот достоверность мира.
Этот мир безнадежно стар, не только и не столько в социально-символическом смысле, сколько в физическом, но, как Дориан Грей, притворяется новым, молодым. Война, которая идет на экране, это не война между коммунистами и антикоммунистами, Армией Крайовой и Армией Людовой, пилсудчиками и берутовцами, а война между удушливой старостью и молодостью. Мачек — воплощенная, прекрасная молодость, у которой почти нет соратников. Разве что чудная певица, от юного голоса которой должны бы истлеть все веселящиеся живые мертвецы-победители, да сын Щуки, мальчишка из отряда Волка, схваченный госбезопасностью. Его легендарный допрос — «Сколько тебе лет?» — «Сто» — (Пощечина) — «Сто десять» — как раз об этом, о старости, которая убивает молодость. В лес его послали старики, и он сам стал там стариком, для которого минута жизни засчитывается за десять лет.
«Но мы-то живы!», — прерывает Мачека, выжигающего спирт в стопках в память о погибших боевиках, его напарник, строгий, внешне молодой офицер (видать, кадровик) Анджей. Мачек заливается хохотом: удачная шутка. Старому миру нужно от молодых только одно — чтобы они погибли. Что же, за ними дело не станет. Старость убивает ежедневно, ежеминутно, вне зависимости от своих политических пристрастий. Щуку убивают по приказу стариков-пилсудчиков, по их же вине погибают и террористы. Но и Щука — убийца. В мире католического мистика Вайды гибель расстрелянных вместо секретаря парткома молодых рабочих не может быть случайностью, ошибкой. Щука словно составляет себе приятную кампанию для путешествия на тот свет. Сцену убийства самого Щуки, падающего в объятия Мачека, часто интерпретировали как символ необходимого примирения поляков, отрицание братоубийства. Ни фига себе примирение: да это же мертвый хватает живого, метит его клеймом небытия. Вот почему так интуитивно был неприятен Щука с самого начала.
И, торжествуя по поводу смерти Мачека, зомби поведут короткую любовь Мачека — Кристину — танцевать под полонез Огинского: святая святых для каждого польского патриота. Физически чувствуется, как Вайда в тот момент ненавидит пафосную музыку.
В 1992 году Вайда зачем-то решил в фильме «Перстень с орлом в короне» показать «настоящего» Мачека Хельмицкого. Зря. То, что миф разменяли на мелкую монету эпизода из истории антикоммунистического подполья, еще полбеды. Гораздо непоправимее то, что куртка Мачека оказалась в цветном фильме зеленой, хотя должна навечно остаться в памяти зрителей черной, как и его очки, свидетельство неразделенной любви к родине. А еще через три года по всем документальным фестивалям мира прошла, собирая награды, польская «коротышка» «Тихая пристань». На экране не было почти ничего: какие-то пустые помещения, да старик, лица которого нам так и не дали разглядеть, да дым от его бесконечных сигарет. Старик рассказывал, как в конце 1940-х годов был АК-овским ликвидатором. А те самые комнаты были залиты кровью и заполнены предсмертными хрипами офицеров госбезопасности. Старику без имени повезло: он не попался, нашел свою тихую пристань, где и прожил долгую, долгую жизнь в скучных трудах и постоянном страхе. Можно ли представить на его месте Мачека? Вряд ли, конечно же, он сгорел поминальной стопкой спирта, как сгорели все его друзья, хотя… кто знает. Старый мир, мертвый мир имеет обыкновение побеждать.
Антифашистское сопротивление в европейских странах вели люди, которых война сделала чем-то вроде породы или сословия (во Франции к нему принадлежали Альбер Камю и Андре Мальро). Оккупация длилась годы, им оставалось только стрелять, не очень отвлекаясь на то, что будет потом. «Стрелять и прятаться», как сказал герой фильма Вайды. «Умирать» для них было единственным способом чувствовать себя живыми.
Потом война отступила, появились те, у кого были другие способы, и они диктуют правила игры. В фильме в разгар банкета патриотов и союзников его распорядитель деловым тоном спрашивает старушку у туалета: «Пани Мерлушка, кто-нибудь уже блевал?». Он точно знает, что увлечение вопросами политики, карьеры, коммерции и т.д. ведет (кроме светлого будущего) в туалет пани Мерлушки.
«Пепел и алмаз» — фильм о двух бойцах польского сопротивления, затерявшихся среди триумфальных речей, залпов салюта и банкетной снеди.
Еще это рассказ о любви и смерти на куче мусора от пули в животе.
Еще он о том, как глупо танцевать полонез Огинского под утро, когда в парах не хватает женщин, а в оркестре все пьяны и хотят спать.
О «Пепле…» мне недавно напомнил старый вестерн Серджио Леоне «Once Upon A Time In The West», снятый по сюжету Бертолуччи. Я смотрел его впервые, и «внезапное сходство поразило меня».
Фильм Вайды — трагедия шекспировского калибра, вестерн Леоне — просто изящный кукольный театр. Но в декорациях Запада действуют герои, неуловимо похожие на поляков 45-го года из «Пепла и алмаза».
Это те, кто умеет жить,
Они строят железную дорогу и город, покупают и продают друг друга, пасут лошадей, варят похлебки — делают все, чтобы выжить. С ними женщина (Клаудиа Кардинале), которая — «чтобы выжить» — проводит ночь с человеком, убившим ее мужа. Потом, говорит она, ей будет нужна лишь «лохань с горячей водой», чтобы перечеркнуть прошлое.
и те, кто умеет умирать.
Их двое. Они хорошо стреляют, корчатся от боли, ускользают от ловушек и понимают, что им нечего искать в городе, который «будет красивым»…
Да, это романтичный кукольный театр. Иногда именно в нем показывают людей, прошлое которых не утопить в лохани с горячей водой, а будущее не предполагает визитов в туалет пани Мерлушки.
Павел Шулешко

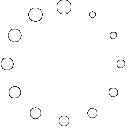
— Комментарий можно оставить без регистрации, для этого достаточно заполнить одно обязательное поле Текст комментария. Анонимные комментарии проходят модерацию и до момента одобрения видны только в браузере автора