
Пожалуй, это единственный в истории фильм, про который никто не знает, как его правильно называть.
«За пригоршню динамита» — англосаксонское название. Вполне конформистское: намекает, что это просто очередной спагетти-вестерн Серджио Леоне в духе «Пригоршни долларов» (1964). Заодно прокатчики ампутировали открывающую фильм цитату из Председателя Мао: «Революция — не званый обед, она творится не так, как книга, рисунок или вышивка. Ее невозможно совершить с теми же элегантностью, спокойствием, деликатностью или нежностью, любезностью, сдержанностью и душевной щедростью. Революция — это восстание, акт насилия, совершая который, один класс свергает другой». Но, с цитатой из Мао, без нее ли, фильм менее «экстремистским» не стал.
В некоторых странах фильм шел под прекрасным названием «Пригнись, мудак!». Эту фразу Мэллори (Джеймс Кобурн) — эмигрант, работающий в Мексике на горнорудную компанию, а в прошлом бомбист Ирландской республиканской армии (ИРА) — презрительно бросает подловившему его на дороге пеону-грабителю Хуану (Род Стайгер). Походя он демонстрирует чудесные возможности нитроглицерина. «А если я в тебя выстрелю?» — интересуется Хуан. «Если я упаду, придется переделывать карту мира. Вместе со мной исчезнет полстраны».
Наконец, кое-где фильм известен под названием «Однажды была революция». Оно самое точное, потому что речь идет о средней части трилогии, обрамленной картинами «Однажды на Диком Западе» (1968) и «Однажды в Америке» (1982). Так и будем в дальнейшем называть этот фильм.
Впрочем, он мог бы именоваться «ХХ век», как назовет свою эпопею (1976) Бернардо Бертолуччи.

«Однажды на Диком Западе» — фильм не о плохих, хороших или гадких ганфайтерах. Он о двух версиях американской мечты. Мечты первопроходцев о вольных просторах, если угодно, о сияющем городе на холме, и мечты идущих за пионерами «акул» о подчинении этих просторов. «Однажды в Америке» — не о гангстерах, а тоже об американской мечте, обернувшейся предательством, смертью и безумием. «Однажды была революция» — не о налетах на дилижансы и банки, горных засадах, сталкивающихся в лоб поездах, бандитах и одиноких всадниках (точнее, мотоциклистах, как Мэллори). Хотя все это там есть. Отличный вестерн, не подкопаешься. Первый эпизод просто уникален по степени концентрации аллюзий. Хуан мочится на землю. Вспоминается первый кадр из «Дикой банды» (1969) Сэма Пекинпа с мальчишками, бросившими скорпиона в муравейник. Хуан поднимает голову, прислушиваясь к далеким раскатам динамитного грома: это Мэллори крушит скалы. Вспоминается начало «Джонни Гитары» (1954) Николаса Рея.
Но все равно, этот фильм не о засадах и перестрелках, а об одном из величайших мифов человечества — мифе революции.
Революции, которая вопреки заезженным благоглупостям вовсе не пожирает своих детей. Кстати, почему «детей», а не «отцов»: погибают, в том числе и от рук соратников, именно те, кто революцию делает? По версии Леоне, революция — это прекрасная форма самоубийства. Или алкоголизма. Мэллори — «анонимный алкоголик», который забил на революцию и выбросил в грязь томик Бакунина. Но потом махнул на все рукой, убил доктора и ушел в запой свободы.
И в том же эпизоде с мочащимся Хуаном уже сквозит ветер революции. Кажется, что прислушивается он не к взрывам, а к мелодии, дразнящей его: «Шон-Шон, Шон-Шон». Этот перезвон предупреждает: на горизонте уже появился Мэллори, и Хуану не разминуться со своей судьбой, которая превратит его, помимо его воли, из простого бандюги в народного героя, а там, глядишь, и в генерала, как напророчит ему умирающий ирландец в финале. Так в опере появление героя сопровождает музыкальный мотив. «Однажды была революция» — опера о мексиканской революции.
Почему именно о мексиканской, которую историки ограничивают 1910–1917 годами, хотя Эмилиано Сапата сражался до 1919, а Панчо Вилья — до 1920? Ну да, Мексика — территория вестерна, пограничье, которое одним из первых, с 1964 года, осваивал именно Леоне. Он там как дома. Но важнее то, что эта революция, воспетая Джоном Ридом и Сергеем Эйзенштейном, — самая киногеничная в ХХ веке: кактусы, «Кукарача», неописуемой ширины сомбреро, пулеметные ленты внахлест, текила из горла, конные лавы.
«Добрались враги до Вильи, Панчо славного не стало. На дороге подловили боевого генерала. Из Парраля спозаранку ехал Вилья наудачу. Знай крутил себе баранку, напевая «Кукарачу». Это Иосиф Григулевич, один из убийц Троцкого, перевел революционную балладу, а скорее всего, сам ее и написал.
/ «Презренье к ближнему у нюхающих розы/ Пускай не лучше, но честней гражданской позы. И то, и это причиняет кровь и слезы./ Тем более, в Мексике у нас, где смерть, увы,/ Распространяется, как мухами зараза/ Иль как в кафе удачно брошенная фраза./ И где у черепа в кустах всегда три глаза./ И в каждом пышный пучок травы»./ А это уже танцует танго Иосиф Бродский.
Анархисты молились на Вилью, создавшего самоуправление на повстанческой территории раньше, чем это сделал Нестор Махно. В Мексике пропал без вести великий Амброз Бирс, «Эдгар По» конца XIX века, на старости лет пославший все к черту и ушедший в вечность, начинавшуюся на том берегу Рио-Гранде. В повстанческой кавалерии, по его собственным словам, якобы гарцевал юный Джон Хьюстон. Врал, наверное. Или «Однажды в Мексике» Роберта Родригеса — что это, как не объяснение в любви к той же революции?
Почему в мексиканских событиях участвует ирландец? Да потому, что ирландец из ИРА — это икона перманентной революции. Легендарное упрямство ирландцев не позволяет им признать свое поражение. Если совсем уж не зарываться в древность, вся новая история — это история ирландской революции. Бойцы ИРА охотилась за вице-королем Ирландии в 1880-х. Истекали кровью на захваченном ими дублинском почтамте в 1916. Ставили — горстка против армады — на колени английскую империю в 1919–1921 и, едва завоевав независимость, с увлечением отстреливали друг друга в 1921–1922. Снова и снова снаряжали бомбистов в 1930-х, 1940-х, 1960-х. Учинили, начиная с 1970-го, гражданскую войну в Ольстере. И как-то не верится, что эта бесконечная эпопея завершилась. Что замирившись с Лондоном, ИРА послушно сдала припрятанное оружие.

Ребята из ИРА шныряют даже по страницам такой эзотерической книги как «Улисс». Конечно, Джеймс Джойс — ирландец. Но вот Марсель Пруст — француз, а в его книгах почему-то не встречается «банда Бонно», тоже хороший шорох наводившая во Франции в начале 1910-х.
Ирландия возникает на экране флешбэками, в памяти Мэллори, под все то же, то беззаботное, то горькое «Шон-Шон». Два парня-подпольщика и девушка в белом, в которую они оба влюблены. Прогулки на автомобиле по сине-зеленому острову. Свободная, беззаботная любовь. И пули, пули, которые Мэллори вынужден будет всадить в друга (того, второго парня), когда тот, не выдержав пыток, приведет полицию в паб, чтобы сдать товарищей. Эти пули рассекут экран в рапиде, но вовсе не для того, чтобы зрители успели насладиться зрелищем разорванной ими плоти. Просто пули, выпущенные в друга, а на самом деле в самого себя, имеют свойство лететь очень-очень долго.
«Шон-Шон»…
Забавно, что Леоне не хотел Кобурна на роль Мэллори. Он представлял его с лицом Малкольма Макдауэлла, тогда еще совсем юного. Бойцы ИРА не успевали не то что состариться, а даже заматереть. Оставались вечно молодыми, как сама революция.
Итак, в словно бы Мексике, символической и условной стране, сходятся для Леоне все силовые линии ХХ века, вся его иконография, документальная и кинематографическая.
Мэллори — не просто выходец из ИРА. Он бы мог быть отцом Марии из левацкого вестерна Луи Маля «Вива, Мария!» (1965), который неустанно взрывал угнетателей по всему миру и обучил дочурку динамитному ремеслу. А она использовала его на благо все той же мексиканской революции.

В прологе пассажиры дилижанса глумятся над Хуаном, разыгрывающим перед ними — в сладком предчувствии мести — безобидное тупое животное. Здесь Леоне пользуется приемами советского революционного кино 1920-х. Каждый из пассажиров представляет один из эксплуататорских классов: священник, очкастый чиновник, американский бизнесмен с замашками работорговца, неудовлетворенная барынька. То есть Леоне с пародийной дотошностью выполняет инструкции «Пролеткульта». Они гласили, что в произведениях, посвященных революции, должно быть представлено классовое строение общества во всей его полноте. Леоне снимает эксплуататоров все более и более крупными — до гиперреализма — планами. Жрущие рты, крошки в усах, расширенные от похоти зрачки. Так могли бы снимать Эйзенштейн или Пудовкин. Хозяева Мексики напоминают копошащихся в мясе червяков из «Броненосца “Потемкин”». Кстати, на Кубе своих контрреволюционеров называют «гусанос», то есть «червяки».
И, чтобы закрыть русскую тему раз и навсегда, я признаюсь, что убежден: «Однажды была революция» — главный фильм о революции со времен «Броненосца». Интересно, познакомились ли на том свете Сергей и Серджо? Хуан втолковывал Мэллори: «Мы с тобой, Хуан и Джон, — два Джона. Это же хорошо!» Два Сергея — тоже хорошо.
В какой-то момент революция терпит временное поражение. Одна из самых головокружительных панорам мирового кино: разверстые рвы, в которые падают расстрелянные повстанцы. Было ли такое в Мексике–1914 (так примерно можно датировать события: диктатура Уэрты, расстрелявшего лидера демократии Франсиско Мадеро, «мексиканского Керенского») или не было? Неважно. Леоне думал о рвах Дахау и Маутхаузена как об абсолютном воплощении террора. Через 25 лет те же образы террора возникнут у Патриса Шеро, когда он будет ставить «Королеву Марго» (1994). Конкретнее, сцены Варфоломеевской ночи. Любой террор — это Варфоломеевская ночь.

Но Леоне не был бы Леоне, если бы ограничился этим мощным, но вторичным образом. Он вписал и свою главу в иконографию террора. Ночь. Дождь. И «дворники», безнадежно разгоняющие потоки на лобовом стекле автомобиля. Люди у стены. Лицо человека, который делал революцию, а потом, плененный и измученный, указывает своим палачам на тех, кого они расстреляют через минуту. Ночь. Дождь. Усталые «дворники».
Не случайно карателей, которые преследуют повстанцев, ведет офицер-пруссак с лягушачьим лицом эсэсовца-кокаиниста. Он чувствует запах Мэллори. Ему достаточно подобрать томик Бакунина, чтобы понять, кто против него, кто пулеметным огнем остановил его колонну. Между прочим, очень точная деталь. Такие немецкие военспецы воевали в Мексике, бродили ландскнехтами по Финляндии и Прибалтике в 1918–1919, планировали операции против китайской Красной армии в 1920-х, стирали с лица земли Гернику в 1937. В них воплотился сам дух контрреволюции, белого террора. А дух революции — в таких «летучих ирландцах» как Мэллори, успевавших за свой век проиграть дюжину войн. О них писал молодой Константин Симонов: «С тех пор он повсюду воюет. Он в Гамбурге был под огнем. В Чапее о нем говорили. В Мадриде слыхали о нем» (1937).
Хуан ни о какой революции не думает. Его голубая мечта — ломануть банк в провинциальном городе. Мэллори дарит ему такую возможность. Смена настроений на лице Хуана, обнаружившего в банковских комнатах-сейфах никакое не золото, а политзаключенных, — шедевр комической мимики. Леоне, работая над этим эпизодом, думал о Чарли Чаплине в «Новых временах» (1936). О бродяжке Чарли, подобравшем с мостовой упавший красный флажок, чтобы вернуть его хозяевам, и нежданно-негаданно оказавшемся во главе манифестации.
Годар говорил: все фильмы на земле — о любви. Даже гангстерские. В них идет речь о любви мальчишек к оружию. О любви ли фильм Леоне? Безусловно. Вокруг «прекрасной дамы» по имени Революция разыгрывается балет соблазнителей, соперничающих за ее расположение и поочередно соблазняющих друг друга. Marivodages, как в галантном французском XVIII веке. Опасные связи, ничего не скажешь.

Мэллори соблазняет Хуана мощью взрывчатки, шансом взять банк, потом — славой героя, призраком революции. Хуан из «малых сих», которых, считается, грешно соблазнять. Варфоломеевская ночь белого террора унесет всех его сыновей, бодро потрошивших с ним дилижансы: «Дети! Сколько раз вам говорить! Не стреляйте, пока папа не разрешит!»
Но и Хуан соблазняет Мэллори, провоцирует, вынуждает вспомнить навыки террориста. Случайная встреча у разграбленного дилижанса напомнила Мэллори вкус революции. «В революции всегда погибают бедные». Погибнув, Мэллори опровергнет эти слова Хуана.
И сам Мэллори однажды окунулся в подполье, как в любовь. В одном из флешбэков он впервые видит своего друга, соперника, предателя, жертву, когда тот раздает листовки в пабе. То, что написано на лице Мэллори, называется любовью с первого взгляда.
Так много любви, так много желаний, так много соблазненных соблазнителей. Леоне, соотечественник Данте, похоже, тоже верил, что «всем в мире управляет любовь». На месте томика Бакунина могла бы быть «Божественная комедия». Впрочем, Данте тоже, кажется, участвовал в революции. Только называлась она «войной гвельфов и гибеллинов». Однако то, как она называлась, совершенно неважно. Как неважно, под каким именем мы знаем фильм Серджио Леоне.






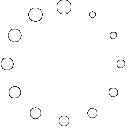
— Комментарий можно оставить без регистрации, для этого достаточно заполнить одно обязательное поле Текст комментария. Анонимные комментарии проходят модерацию и до момента одобрения видны только в браузере автора