Сюрреалисты непрестанно выясняли, кто из них видит правильные сны и, соответственно, достоин принадлежать к ордену, основанному блаженным циклотемиком Андре Бретоном. Робера Десноса подвергли остракизму за то, что его сны были слишком связными и традиционно-поэтическими, Сальвадора Дали — за то, что они были чересчур коммерческими. А бывший моряк Ив Танги, как ни старался, грезил лишь пространствами, напоминавшими морские просторы. Спорили о фрейдистских символах, расшифровывали смысл ножниц и лестниц, в полусне заносили на бумагу или на холст смутные образы, как правило, как назло, чересчур оформленные. Верить снам, молиться им, отключить к чертям собачьим рацио — прекрасная, продуктивная позиция, безмерно обогатившая искусство, философию, психологию ХХ века. Но никто — просто потому, что это не в человеческих силах — не мог одновременно видеть сны и критически к ним относиться, иронизировать над собственными фантазиями, смеяться над собственными мечтами. Никто, кроме Бунюэля.
Пожалуй, Бунюэль не был человеком в принятом смысле слова.
Сны Бунюэля совсем не экстравагантны, они буржуазны, тягучи, нарративны. Они обыденны и пошлы, и именно поэтому безусловно убедительны. В деловитой поступи буржуа, которым никак не удается поесть, в безуспешности попыток людей из высшего общества покинуть заколдованную церковь, в пиршестве убогих ублюдков, расположившихся, что твои двенадцать апостолов, на манер тайной вечери, нет ничего сверхъестественного. Эти и многие другие бунюэлевские образы слишком просто интерпретировать как социальную сатиру. Честно говоря, это и есть социальная сатира. Возможно, в ХХ веке не было столь блистательного сатирика, как Бунюэль. Если бы не одно «но». Старый анархист, атеист, охальник Бунюэль не глумится над чужим сном, он — его соучастник, который видит его вместе со своими персонажами. Бунюэль и ненавистный ему априори латиноамериканский наркобарон и палач — одно целое. Бунюэль и сходящий с ума от ревности буржуа — один человек. «Дневная красавица», буржуазка Катрин Денев, ставшая звездой потайного парижского борделя — это никто иной, как глухой, как пень, мудрый, как змея, ежедневно, методично надирающийся мартини, убивающий одиночество стрельбой из пистолета в замкнутых пространствах Бунюэль.
Именно он разгадал великую загадку сна, заключающуюся в том, что тот, кто видит сон — не я, не ты, не он, не она, а мы все, вместе взятые, атеисты и католики, фашисты и коммунисты, мужчины и женщины, садисты и мазохисты. Мы все смотрим один сон на всех. Сон, у которого много имен. «Ангел-истребитель» (1962) или «Призрак свободы» (1974), «Виридиана» (1961) или «Скромное обаяние буржуазии» (1972), «Этот смутный объект желания» (1977) или «Дневная красавица» (1967).
Конечно, Бунюэль не читал «Иконостас» Павла Флоренского. Однако бывают же причудливые рифмы. Испанский республиканец, который с удовольствием ставил в «Млечном пути» (1968) расстрел боевиками Дуррути самого Папы Римского, и русский священник, грезивший идеальным православием и расстрелянный в России, думали об одном и том же, встречались где-то в запредельной области всеобъемлющего текста, который пишут не люди, нет, а некий абсолютный, безликий и, вместе с тем, очень человечный и ироничный Автор.
Интересно, расстрелял бы Бунюэль Флоренского, пересекись их траектории в истории ХХ века?
Хм, а еще интереснее представить себе диалог на том свете между Флоренским и Бунюэлем. Им нашлось бы о чем поговорить. Просто парочка богословов из новеллы Борхеса, которые при жизни беспощадно спорили о тонкостях христианства, пока один не отправил другого на костер, но которых на том свете господь бог просто перепутал, поскольку земные мелочи — ничто по сравнению с общим порывом к истине. Именно Флоренский предположил, что сны мы видим задом наперед. Некое физическое раздражение вырывает нас из сна, вернее, из глухой, безобразной бездны, и за те неуловимые, немыслимые даже не доли, а какие-то миллиардные доли секунды до того, как мы вернемся к «реальности», нам чудится вполне связная история, смысл которой только в том, чтобы оправдать пробуждение. Например, человеку снится, что он участвует в Великой французской революции, неистовствует в Конвенте, штурмует Тюильри, попадает на гильотину при Робеспьере и просыпается в ужасе, когда лезвие прикасается к его шее. И тут-то он понимает, что проснулся из-за того, что крайне неудобно повернулся во сне, прикоснулся шеей к холодной спинке кровати, которая и стала той самой гильотиной. Замечательно, что эти рассуждения Флоренского кажутся абсолютно чужеродными в ткани «Иконостаса», рассуждения о соответствии той или иной живописной (или графической) технологии тому или иному типу религиозного мироощущения. Да просто не имеют никакого отношения к сути текста. Что-то достало отца Павла и он, словно повинуясь бретоновским призывам к автоматизму письма, запнулся и, после неуловимой паузы, продолжил: «А теперь, дети мои, мы поговорим о природе сна».
Совсем как бунюэлевский солдат из «Скромного обаяния буржуазии», который, отрапортовав по форме и доставив донесение, невозмутимо оповещает: «А теперь я расскажу вам свой сон». И господа офицеры послушно усаживаются вокруг стола, чтобы послушать солдатский бред.
Северин Серизи снится сон. Она мечтает, что любезный и холодный муж прикажет брутальным слугам вытащить ее из ландо, привязать к дереву, разорвать на ней одежду и исполосовать узкую обнаженную спину бичами, прежде чем изнасиловать. Заметим в скобках, что ничего великолепнее этой садомазохистской сцены в антологии образов сексуальной революции 1960-х нет и быть не может. Старик Бунюэль оказался бесстыднее, изощреннее всех юных революционеров с их жалким, утомительным, ребяческим развратом. Луи Маль попытался передрать порку Северин в новелле «Уильям Уилсон» из киноальманаха «Три шага в бреду»: Ален Делон истязает светскую куклу, проигравшую саму себя в карты. Ну, истязает, ну, и что дальше?
Но кому снится этот сон? Что за вопрос? Конечно, снится он ледяной сучке Северин, которая только и мечтает корчиться и орать под плеткой, ощущать удары корявого мужланского члена в своей изысканной заднице, валяться в грязи, покрываться липким потом, запах которого перебьет аромат любых духов. «Буржуа подобны свиньям» — пел Жак Брель, другой великий анархист и похабник.
Лучшая, между прочим, роль Катрин Денев. Змей Бунюэль прекрасно понимал, что «к лицу» не только девушке из хорошей семьи, но и этой ледяной, фригидной, бессмысленной и царственной именно в своей полной бессмысленности «королеве» французского кино. Какие там, к такой-то матери, шербурские зонтики! Какая чистая провинциальная любовь! «Пуркуа лабсансе э си лонге, пуркуа же не сюи па морте»? Пой, ласточка, пой, а в рот возьмешь? Идеальное амплуа Денев — сексуальная психопатка, будь то в «Мадмуазель» Тони Ричардсона, «Отвращении» Романа Поланского или «Дневной красавице». Люди 1960-х прекрасно понимали, что именно надо делать с этакой куклой, раз уж она обнаружилась в кинопространстве. Но лучше всех это понимал, опять-таки, старик Бунюэль. Нет никаких сомнений в том, что порка, открывающая «Дневную красавицу» — сладкий сон не только Северин, но и самого режиссера.
Интересно, а найдется ли вменяемый человек, которому бы не хотелось выпороть юную Катрин Денев? То-то. Но выпорол ее один лишь Бунюэль. Вы, нынешние, нутка?
Но это же и коллективный сон сюрреалистов. Пожалуй, в ХХ веке они были первыми, кто понял мистический смысл дешевой порнографии, поднял на щит рассыпающиеся после первой же читки анонимные книжонки, непристойные эстампы, срамные куплеты, нелегальные лесбийские фильмы, одним словом, все то гетто, подполье, катакомбы, в которые буржуазный XIX век загнал сексуальные импульсы. Другое дело, заметим в скобках, что лучше бы не вытаскивали, не легализовали, не реабилитировали. Отвратительнее общественного ханжества, игнорирующего «порнографию», может быть только общественная «терпимость», «порнографию» не только признающая, но и превращая в доходный продукт.
«История О» — великая книга, но читать ее всерьез в наши дни, увы, невозможно.
Бунюэль, проживший достаточно долго, чтобы стать свидетелем превращения порнографии из революционного, террористического жанра в фастфудовскую жвачку, иронично каталогизирует в «Дневной красавице» все те «извращения», которые сюрреалисты с искренним идиотизмом неофитов вытащили на свет божий. Садомазо? Да сколько угодно. Педофилия? Недаром в борделе, где коротает послеполуденный отдых Северин, мельтешит школьница, на которую время от времени бросают заинтересованный взгляд клиенты. Некрофилия? Некий герцог вывозит Северин в свой замок, дабы она изобразила спящую красавицу, возлежащую в гробу, пока клиент проливает смешанные со спермой слезы над ее «бездыханным» телом. Фетишизм? Как пародийно-невинно Бунюэль задерживает камеру на туфельках Северин, валяющихся на полу борделя, в сцене первого свидания дневной красавицы с бандитом Марселем.
Самое замечательное «извращение», с которым сталкивается Северин, — таинственная коробочка, которую клиент-японец демонстрирует барышням, после чего они отказываются его обслуживать. Все, кроме Северин. Ситуация, идеально описанная в пресловутом анекдоте: «Да, ужас. Но ведь не ”ужас-ужас-ужас”». Однажды я спросил у Жан-Клода Карьера, соавтора сценария «Дневной красавицы», что же лежало в коробочке, хотя прекрасно понимал всю бессмысленность вопроса. «Ну, как же», — изумился моей наивности Жан-Клод. — «Конечно же, фотография месье Карьера».
Хотя, возможны и приземленные интерпретации. Моя жена, например, предположила, что в шкатулочке лежали «шарики гейши», которые вполне могли шокировать шлюшек из борделя «с именем».
Величие Бунюэля, между прочим, и в том, что, выводя на экран фантазийного персонажа, того же японца, он не брезгует и обывательским юмором, дурацкой шуткой. Японец пытается заплатить в борделе по кредитной карточке. Что вы, что вы, месье? В 1967 году, судя по всему, кредитка воспринималась как некая дурь, ассоциируемая исключительно с японцами. Типа харакири.
С другой стороны, бордель — это крах Северин, крушение ее сексуальных фантазий. Она приходит в него в поисках сна, а там ничего нет. Пустота, пошлость, уют, каталог милых и забавных привычек постоянных клиентов.
Казалось бы, сон — самое естественное, самое органичное, самое свободное от груза «культуры» состояние человека. Но в нашем сне нам может явиться и персонаж фильма, и герой романа, и телевизионный ведущий. Несколько знакомых, да и я сам, с ужасом встречали накануне президентских выборов 2000 года в своих грезах В.В. Путина. Так и у Бунюэля в «Дневной красавице» внезапно всплывают ни к селу, ни к городу не то, чтобы «цитаты», но деформированные образы культуры. Во сне Северин, когда ее, связанную, забрасывают грязью, внезапно строятся в композицию картины Милле «Анжелюс» невозмутимые крестьяне. Ну да, Бунюэль не упускал возможности постебаться над любимым и ненавистным католицизмом, но воздушная неуместность этой сцены — чисто сновидческого толка. Врач-мазохист, шествующий по коридору борделя — точь в точь некто в черном, в пальто и котелке, навещавший картины бельгийского сюрщика Рене Магритта.
Ладно, живопись. Еще интереснее, как в бунюэлевском сне всплывают образы современного ему, но созданного младшим поколением кинематографа. Северин, которую, натешившись, приказывает выгнать под проливной дождь герцог-некрофил — это Кабирия, поверившая в прекрасного принца и пережившая возвращение в положение шлюхи как крушение всех надежд. Наверное, Бунюэль очень смеялся, когда читал и слышал о невероятной фантазии «мальчишки» Феллини. И почему вдруг всплывает в фильме сцена прохода по Елисейским полям, навязчиво аккомпанируемая голосом разносчика газет, предлагающего срочно купить «New York Gerald Tribune»? Зуб даю: только потому, что за семь лет до «Дневной красавицы» по тем же Елисейским полям шлялась коротко стриженая американочка в полосатой футболке и точно так же торговала американской прессой. Джин Сиберг, если кто не понял. «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара. Главный фильм 1960-х. Но Бунюэлю вся эта «новая волна» — на один зуб. Разгрыз, выплюнул и даже не почувствовал.
Тень Годара мелькает и в сцене преследования полицией бандита Марселя, влюбившегося в Северин и пулей опрокинувшего в кому ее фригидного мужа. Марсель старательно позирует: то так пальнет, то этак, то пробежится, то красиво зашатается, то рухнет на булыжную мостовую. Мишель Пуакар, ты не убедил старика Бунюэля в доподлинности своей гибели, он увидел в тебе лишь тень, сон, фантом.
Впрочем, Бунюэль на удивление добродушен именно тогда, когда живописует всю эту подпольную парижскую фауну: уютную хозяйку борделя, играющую в свободную минутку в карты с «девушками», бандитов с их «кодексом чести», строгих докторов, которые становятся самими собой только когда девка топчется у них на лице. Здесь сквозит неподдельная ностальгия по тем временам, которые еще застал в Париже 1920-х годов молодой испанец, простонародным, лицемерным и бесстыдным одновременно. Когда бандерша была как мама, головорезы щеголяли традициями апашей, а историю, подобную истории «дневной красавицы», можно было прочитать только из-под полы. Судя по мемуарам, эти времена когда-то были вполне реальными. И те, кто жил тогда в Париже, не устают печалиться об их исчезновении.
Почти никто не снял такого фильма о буржуазном сексе и фантазиях, освобождающих человека и одновременно запирающих его в новую клетку, как Бунюэль. Почти — потому, что спустя тридцать лет закончил свое гениальное «завещание» Стэнли Кубрик. Возможно, он подсознательно спорил с Бунюэлем, переводя рассказанную им историю в драматическое русло. Ведь Том Круз, открывающий для себя «бездны» секса в ночном Нью-Йорке, — своего рода «ночной красавец». Впрочем, кто из нас не такой же «красавец» или «красавица»?
Автор сознательно не упоминает в тексте литературную основу фильма, роман Жозефа Кесселя «Дневная красавица» (это вовсе не значит, что он его не читал).
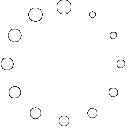
— Комментарий можно оставить без регистрации, для этого достаточно заполнить одно обязательное поле Текст комментария. Анонимные комментарии проходят модерацию и до момента одобрения видны только в браузере автора