Роман Рудица
Любовное настроение: заметки о фильме
Мы видим только часть… Может быть, режиссер намеренно показывает нам часть происходящего, чтобы, догадываясь о целом, каждый из нас вообразил его по-своему. Как это просто: дай зрителям намек, а из него возникнет тысяча новых фильмов. Но, может быть, режиссер и его герои не знают (или не помнят) целого: в памяти остались лишь намеки, ощущения, кадры. И еще нечто, связь, объединяющая обрывки, отблески былого — настроение, которое нельзя показать на экране.
Весь фильм — воспоминание. Но, вспоминая прошлое, мы не видим ясно механической связи событий, зато иногда видим их скрытую причину. Все было так, как должно быть; и вот среди минувших образов является образ чего-то, никогда ни виденного глазами — он-то и оказывается самым главным, неподвижным каменным ликом, на котором лежат тени и блики прошлого.
«Камбоджа. 1966 год» — таким титром начинается заключительный эпизод «Любовного настроения».
Вонг Кар-Вэй — мастер времени, и не только потому, что умеет красиво организовать его течение. Он умеет нечто большее: показать, что это время не настоящее, а прошедшее, показать так, что дистанция в 30 лет, отделяющая нас от кадра, будто стоит между глазами и экраном как стекло, преграда — такая прозрачная, и такая непреодолимая.
Там, в кино, сменяются времена суток, сезоны… Но камера не покидает пределов тесных помещений, мы почти не видим неба. Теснота жилых и служебных комнат, ресторан, узкие пазухи лестниц, лоскут улицы. Иногда в окне — кусок черноты, иногда — смутная, не то утренняя, не то вечерняя синева. К тому же, в приморском субтропическом Гонконге нет ни зимы, ни лета (таких, которые можно показать в кино).
Поэтому о времени нужно догадываться. Работа — это, видимо день, дом — утро или вечер; но, главное, все части дня визуально неотличимы, ибо их отличие несущественно — все они давно стали прошлым. Периодически возникает циферблат часов… как он многозначителен! Мертвенный белый круг в смутном пепельном свете — казенные часы: такие в 60-е годы висели в конторах, на вокзалах и фабриках чуть ли не по всему миру. И, хотя стрелки меняют положение, их перемещения показывают не часы и минуты, а неподвижность, замкнутость круга.
Времена года… Режиссер рассказывает, что многое значит пища: по тому, какие овощи подают на обед, можно установить месяц действия. Наверное, для обитателей южно-китайского побережья весьма красноречивы дождливые сезоны… Все зависит от памяти. Она сохранила: это свидание случилось под дождем, при этом разговоре соседи ели июньские овощи — но в большинстве случаев подобные детали утрачены. А уж когда титры возвещают: 1960 такой-то год — становится окончательно ясно, что временные привязки лишь оттеняют превращение прошлого в ностальгическое получувство…
Лица актеров, их жесты не выражают абсолютно ничего — притом, что игра филигранна. Не игра — чистое представление, когда ни одно чувство не переживается, даются лишь точные намеки на чувства. Словно перебираешь старые фотографии. Некоторые сцены построены как серии стоп-кадров; кажется, что действие — ряд снимков, каким-то чудом связанных между собою. Вся актерская работа — в пластичных переходах от одного снимка к другому. Бывает такое фотографическое развлечение: наводишь объектив на человека, который говорит, курит, ходит по комнате, и методически щелкаешь затвором. Получается визуальный пунктир действия. У Кар-Вэя любая сцена — такой же пунктир; остов действия, по-видимому, составляют наиболее памятные моменты, время между которыми заполнено движениями условными, как в балете.
Действие замедленно в своей основе. Вот героиня поднимается — когда-то поднималась — по лестнице. Герой шел навстречу… возможно, он запомнил, как она появилась перед ним на секунду, зафиксировал пестроту ее платья, выражение лица, блик электрического света в глазах. В памяти отпечатался угол дома, разделяющий ночную черноту и невещественное мерцание стены, и главное, конус фонарного света. Есть только моменты, когда они сталкиваются на площадке: то герой, то героиня проходят сквозь чертеж, на котором пограничная линия темноты и освещения делит треугольник фонаря — то как высота, то как биссектриса. Любой такой момент самостоятельно живет в душе и может длиться сколько угодно; его внутреннее время стремится к бесконечности. Чтобы связать такие моменты бесконечности, вводятся эпизоды вне времени и действия, и то, что в них происходит, еще беспредметнее, чем воспоминание. Происходит нечто, или, скорее, ничто. Она идет — так ходят на подиуме, так движутся лунатики; цветы на ее одежде — пятнистый узор, подвижная вышивка на ткани ночи; а есть ли человек под этим узором, неизвестно…
Кар-Вэй часто прибегает к замедленной съемке. Но такая съемка — лишь наглядная реализация смысловой структуры фильма. Как делают замедленную съемку? Просто увеличивают время между отдельными кадрами. Сам фильм соткан из оцепенелых мгновений, разделяемых все более набухающей пустотой. Мы вовлечены в ритмическое чередование воспоминаний и пустоты.
Еще о частях
Гонконг — крошечная, в высшей степени специфическая частица китайского мира. Здесь соприкасаются два ни в чем не схожих гиганта: Запад и Поднебесная.
Гонконг начала 60-х — еще локальнее. Это пространственно-временной клочок англо-японских порядков на морском рубеже наливающейся кровью юго-восточной Азии. На этом клочке — ничем не смущенный уют, упорядоченно текущая жизнь. Но скоро ее нарушат общие для региона тревоги. Вводя в предпоследнем эпизоде кадры хроники, Кар-Вэй отгораживает свой тонкий, хрупкий мир от жутковатых течений истории. Королева Камбоджи Сисават Косамак и наследный принц Нарадон Сианук встречают генерала де Голля. Пройдет немного времени, и огонь фашистского мятежа испепелит Камбоджу, разразится вьетнамская война, начнется война в Корее…
Гонконг Кар-Вэя — лоскуток лоскутка. Сам режиссер — представитель общины гонконских шанхайцев и, по его собственным словам, озабочен воссозданием бытового колорита родной консорции.
Все тонкости, отличающие ментальность этой консорции от общекитайской, для нас, европейцев — темный лес. Возможно, дальневосточные люди распознают их с легкостью. Но это совершенно не важно. Важно другое: узость, миниатюрность кар-вэевского локуса. Вместе с режиссером мы всматриваемся в пузырек на поверхности океана времени, на краткий миг возникший между могучих валов. Блеснул радугой — и канул в небытие. И оттого в фильме разлито ощущение хрупкости, печального очарования неотвратимо ускользающих вещей.
Предметный мир картины, выполненный тщательно и любовно, постоянно тяготеет к небытию, хочет раствориться в прошлом, в темноте. Трепетно подобраны вещи, живо напоминающие о времени и месте (кстати сказать, общемировой дух 60-х воссоздан Вонгом Кар-Вэем с уникальной силой, и этот дух, в его интернациональном аспекте, многое говорит и европейскому сердцу). Ткани с характерным рисунком, мебель, форма зеркал и телефонных аппаратов… Но вещи погружены в полумрак, глубинный тон картины — темнота. Она — как черный грунт под красочным слоем: и вот эта темнота тесных комнат, узких улиц неотвратимо проступает сквозь ветшающую под натиском времени живопись. Модные в эпоху 60-х коричневые, палевые, синие оттенки жухнут и поглощаются чернотой. Очертания предметов увядают, и порою глаз различает лишь неопределенное сплетение бликов, размытых контуров…
У Кар-Вэя господствует тьма, ночь. День силится осветить предметы, но вскоре он отступает — и электричество тщетно пытается бороться со мглой. Не так ли и мы с нарастающей безнадежностью всматриваемся в прошлое, понимая, что оно фатально увязает в трясине времени?
Другая госпожа, помимо тьмы, — абстракция. Беспредметность растворяет в себе предметы. Кажется, создатель фильма с сердечной бережливостью собрал вещи, полные воспоминаний, чтобы показать нам, как они будут превращаться в утонченную абстрактную композицию. Была комната с обстановкой — вот на экране изысканное мерцание световых пятен, из которого проглядывают обрывки предметности: обивка дивана, абажур, и, наконец, остаются лишь цветные тени. Они змеятся в пустоте; кажется, и они вскоре ускользнут с экрана…
Абстрактные, «геометризованные» формы дольше других сохраняют устойчивость. Они как бы насмехаются над всеми этими стульями, тарелками, одеждами — над всем, что несет в себе человеческий смысл, что овеяно чувством. Вот скороварка (она как бомба, содержащая заряд, разрыв которого и составляет сюжет фильма); вот героиня идет за лапшой, в руке — веретенообразная посудина; вот абажур точно такой же формы; наконец, героиня, одетая в типичное для 60-х облегающее платье с высоким воротником, сама принимает «форму вращения».
…Она сидит в гостинице и плачет. У нее неживое лицо! Когда-то (в 1963 г.) она плакала по-настоящему, она жила; но теперь перед нами — фаянсовая фигура. Слезы вытекают из глаз, как у скульптуры Шаньдунского фонтана.
Теперь — о музыке
Присутствие в фильме латиноамериканских мелодий режиссер объясняет просто: они были популярны тогда и там, где разворачивается история.
Но есть здесь одна мелодия… Режиссер услышал ее в каком-то совсем другом, чужом, фильме и понял: она необходима для «Любовного настроения». И правда, необходима. Более того, без нее лента не состоялась бы.
Мелодия эта без признаков эпохи, национальности, далеко не яркая: во всяком случае, запомнить ее, несмотря на частые повторения, очень трудно. И все же она завораживает, вызывает какое-то томительное оцепенение… наверное, потому, что для нее точно найдено место.
Фильм организован ритмически; по композиции он — тоже абстракция. Сюжет сам по себе, композиция видеоряда — сама по себе. И в то же время она работает заодно с темнотой, с пустотой, стремясь поглотить, растворить любовную историю. Пожалуй, сюжет нужен за тем, чтобы мы видели, как отвлеченная регулярность нивелирует лирическую интригу. Так движение дворников стирает признание в любви, написанное на измороси ветрового стекла.
Периодически, через почти одинаковые промежутки времени, пустота становится особенно ощутимой, и тогда возникает та самая, «знаковая» замедленная съемка, будто лента в киноаппарате ползет медленнее, чем обычно. На деле же действие выскальзывает из реальности — пусть это даже реальность воспоминаний — и попадает в область без времени, в ничто между разрозненными мгновениями прошлого. Тут-то и звучит главная тема «Любовного настроения».
Этот вальсок — не просто сигнал к временному смещению. В контексте фильма он воспринимается как напев пустоты. Скрипка выводит нечто меланхолическое, отдающее всеми «колониальными» странами сразу. Так мог бы вообразить себе вальс скрипач из ресторана в Гонконге, в Гонолулу, в Бонвее… где угодно. Мелодия похожа на импровизацию. Скупой аккомпанемент скованно топчется на двух аккордах, солист будто нанизывает на него первые пришедшие в голову интонации из музыкальных фильмов 40-х годов.
Может показаться, что ты взаправду был тридцать лет назад в каком-нибудь Шанхае. Сидел в приморском заведении, накачиваясь арзой, а скрипач на эспланаде выводил вот это самое… что теперь нельзя в точности вспомнить, как не пытайся. В мелодии, звучащей так, словно она полузабыта, отчетливо слышна пропасть в три десятилетия.
Вальс с механичной мерностью отсчитывает время. Раз-два-три, раз-два-три… тоника-доминанта-тоника-доминанта… Так может продолжаться до бесконечности; выходит, что музыка ведет счет какому-то мертвому (или умершему) времени, или же просто мимотекущему ничто.
Когда же съемка возвращается в нормальный темп, вальс продолжает звучать еще какие-то секунды, и эти секунды противоречия зрительного и музыкального времени — самые щемящие в фильме.
Что же, собственно, произошло? Да просто в соседних комнатах по-китайски тесной квартиры поселились две семейные пары. Измена, роман… остались двое покинутых, господин Су и госпожа Чоу. На протяжении фильма мы ни разу не видели госпожу Су и господина Чоу: их интрига разворачивается где-то там, в большом мире, иногда в других странах.
Чувствуется: покинутые — совершенно иные, чем те, кто покинул. Покинувшие грубы. Мы не встречаем их, зато видим, как они захлопывают двери перед теми, кого оставили. А в скованной, почти картонной обстановке фильма, где любое резкое движение, любой громкий звук почти невыносим, стук двери — как пощечина. Символ зарождения интриги покинувших — скороварка, внешне безобидный, обтекаемый предмет, наполненный сжатым паром.
Два основных компонента этих отношений: репетиции воображаемого объяснения госпожи Чоу с неверным мужем и работа господина Су над романом о восточных единоборствах, в которой госпожа Чоу принимает живое участие.
Еще одна, последняя, мелодия…
Проходя сквозь стену, камера колеблется, как маятник. По разные стороны стены, в пепельно-жемчужных сумерках, сидят герои. А по радио — концерт: некто просит поздравить свою жену и звучит песня «Совершенная радость» (В полном рассвете). Джоу Сюань своим прозрачным китайским голосом поет нечто бесконечно лучезарное о великом счастье супружества.
И становится ясно: покинутым героям не суждена любовь, им никогда не быть вместе. Очень вероятно, что Кар-Вэй попросту указывает на буддийское предопределение. Так определено где-то там, вне сюжета, вне событийного мира, на путях былых странствий души.
И возникает коридор (вероятно, гостиничный), он декорирован красной материей, с одной стороны — двери, с другой — оконные занавеси. Позднее мы увидим, как занавеси раздуваются, будто некий ветер извне безуспешно стремится проникнуть на этот замкнутый, изолированный от всяких внешних влияний путь.
История завершилась. Теперь перед нами — каменные коридоры Ангкор-Вата. Герой стоит, уткнувшись лицом в выщербленную стену знаменитой буддийской святыни.
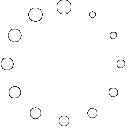
— Комментарий можно оставить без регистрации, для этого достаточно заполнить одно обязательное поле Текст комментария. Анонимные комментарии проходят модерацию и до момента одобрения видны только в браузере автора