Анна Тарасова Дэвид Кроненберг - гений компромисса
Фильм Дэвида Кроненберга «Автокатастрофа», появившись, вызвал раздражение, граничащее с нервным припадком. Почему? Из-за откровенных сцен? Смешно. В кино все давно привыкли к милому, почти рождественскому кинематографическому порно, которому дозволено решительно все, что только можно придумать. От такого кино пахнет старинным амстердамским борделем с цветами в горшочках. И оно никого не беспокоит.
Баллард и Кроненберг увидели другое — последний, дикий, стальной холод, который спрятан, как в ореховой скорлупе, в чувственной любви. Он всех делает безликими, одинокими и равными. За страх перед ним платят собственной никчемностью. А кому нравится платить, тем более за страх?
Павел Шулешко
Катастрофа с Дэвидом Кроненбергом началась в 1991 г., когда автор нескольких весьма популярных weird fictions вдруг занялся экранизацией культового романа Уильяма Берроуза «Обед нагишом» («Naked Lunch»). Катастрофа продолжилась в 1996 г., когда каннское жюри вынуждено было изобрести для очередной экранизации Кроненберга — фильма «Автокатастрофа» («Crash») по одноименному роману Джеймса Балларда — специальный приз «За художественную смелость». Впрочем, и раньше репутация этого horror-maker’а отличалась некоторой нестабильностью: он умело балансировал на грани между массовым и элитарным, кассовым и интеллектуальным кино. Скандальность кроненберговских фильмов заключалась не только в том, что они почти всегда вызывали истерические призывы политиков и критиков «немедленно запретить» ввиду чрезмерности секса-насилия, — но и в их откровенно снобистском подтексте в духе Маклюэна и Бодрийяра, который выходил за рамки дозволенного жанром. Но теперь Кроненберг демонстративно дезертировал из рядов «тех-кто-снимает-кино-для-нормальных-людей» и подался в кино авторское, независимое, параллельное и т.п. И только «Экзистенция» («eXistenZ») 1999 г. несколько успокоила почитателей режиссера, вроде бы возвратившегося «на круги своя».
Ранее Кроненберг предпочитал снимать по своим сценариям. Единственное исключение — фильм 1983 г. «Мертвая зона» («Dead Zone») по роману Стивена Кинга. Но одно дело — Стивен Кинг, «свой парень» в кино, и совсем другое — Берроуз или Баллард. Впрочем, «Мертвая зона» почти и не выпадала из того единого текста, который пишет «кровавый» Кроненберг с 1975 г., когда был снят его первый широкоэкранный фильм — «Мурашки» («Shivers»). Следовательно, тексты американского битника и английского панк-идола тоже предстояло вписать в этот незавершенный сценарий.
Экранизация как прием
Вряд ли существует четкое определение того, что такое «экранизация», или screen version. Но, пожалуй, можно найти один устойчивый признак экранизации: она связана с тем, что называют еще более расплывчатым термином «литературная классика». Screen version заставляет помнить про свою литературную основу и обречена на вечные сравнения с ней — в некотором смысле, это второй сорт. Вторичность заложена в самом названии. Если фильм, снятый по книге, отправляет оригинал пылиться на полки библиотек, полностью замещая его в сознании публики, — это уже не экранизация: просто под рукой продюсера или режиссера вовремя оказался нужный текст, переродившийся в сценарий. Кроме того, есть особая категория «киношной» литературы, отменяющей любые разговоры об адекватности экранизации: тот же Стивен Кинг, вдохновлявший и Стенли Кубрика, и Стивена Спилберга, или Брэм Стокер, отец всех дракул и носферату. Но вот Толстому или Прусту суждено остаться источником экранизаций, и надо обладать сверхнезависимым гением, чтобы превратить один из главных памятников старояпонской литературы, «Записки у изголовья» придворной дамы императрицы Садако,— в постмодернистскую fashion story.
Экранизация — удел массового кино: голливудский шик роскошно-костюмных screen versions неизменно трогает нежные сердца домохозяек и незрелые умы тинейджеров, которым лень читать книжки по школьной программе. В кино-не-для-всех экранизация относительно редка, особенно — в американском. В этом более преуспели европейцы, и прежде всего — итальянцы с их безупречным пластическим чувством эпохи: Висконти, Пазолини, Дзеффирелли. Экранизация «историческая» предпочтительнее «современной», так как дает возможность «уйти» в костюм и декорации, бравируя эрудицией и чувствительностью к истории. Обращение к «классике наших дней» — испытание посложнее: уйти от уровня action в надтекстуальные высоты и избежать упреков в том, что попросту «примазываешься» к великим.
Экранизации Кроненберга — гениальный компромисс. Выбор книг суперинтеллектуален, но при этом удовлетворяет самые разные вкусы. Кроненберг-интеллектуал, примыкая к independents, экранизирует живых (на момент создания фильма) классиков «нового романа». Кроненберг-просветитель делает их достоянием широких масс: ведь «новая» литература (тем более — в варианте Берроуза) не слишком легка для чтения. А Кроненберг–horror-maker превращает заумную прозу в захватывающее зрелище, без стеснения используя стиль фантастики или порнографии и добиваясь коммерческого успеха.
Берроуз и Баллард уже превратились в «исторический материал»; они целиком принадлежат эпохе студенческих революций и расцвета альтернативной культуры, на наших глазах уходящей в архивное прошлое. Дух этой эпохи был еще жив в кино 70-х гг., когда Стенли Кубрик снял «Заводной апельсин» по роману Энтони Берджесса, а Милош Форман — «Пролетая над гнездом кукушки» по книге Кена Кизи. Однако почтенный временной промежуток, который отделяет фильмы Кроненберга от литературного оригинала, превращает его экранизации в своего рода «исторические ленты», а этот жанр требует «воссоздания эпохи». И здесь режиссер оказывается мастером стилизации — такой тонкой, что ни одна демонстративно «историческая» деталь не бросится в глаза. Остаются лишь некий едва уловимый аромат времени и ощущение причастности к великим культурным мифам.
«Naked Lunch» — эротика текста
«Обед нагишом» — самый скандальный роман Уильяма Берроуза. Опубликованный в Париже в 1959 г., он был запрещен в США вскоре после выхода из печати первого полного американского издания (1962 г.). Состоялся знаменитый «литературный процесс», на котором в защиту автора выступили Аллен Гинзберг и Норман Мейлер, — звездный час битничества. Впрочем, как и всегда в подобных случаях, опасения властей насчет морального разложения общества были излишни. Даже вполне подготовленный, «интеллигентный» читатель «Обеда нагишом» примерно на двадцатой странице отчаивается найти хоть какую-нибудь спасительную сюжетную линию в этой исповеди американца — любителя героина, смазливых мальчиков и настоящей литературы. Экранизация галлюцинаторного бреда — занятие неблагодарное, и Кроненберг взял за основу сюжета биографию самого Берроуза: ведь роман пронизан автобиографическими мотивами, поэтому такой ход был вполне логичен. В фильме есть несколько жанровых уровней, каждый из которых ориентирован на свою публику и вполне самодостаточен.
Уровень action. Сотрудник службы дезинсекции Уильям Ли обнаруживает, что у него стал пропадать тараканий яд. Виновницей оказывается жена Уильяма Джоан, использующая отраву как наркотик. Ли вызывают в полицейский участок, где от гигантского таракана он узнает, что его жена — агент таинственной Интерзоны. Тут-то и начинается немыслимая шпионская история, больше похожая на наркоманский бред с элементами dеjа-vu: двойные агенты, насекомообразные пишущие машинки-эротоманки, на которых Ли должен строчить свои отчеты, поездка в кишащую писателями-шпионами Интерзону с ее ярким североафриканским колоритом, гомоэротика и эффектные транссексуальные превращения персонажей. Захватывающее зрелище в прекрасных декорациях, вечно модное ретро и коллекция монстров, перекочевавших сюда из кроненберговской «Мухи» («The Fly»), — художник-постановщик честно заработал свои аплодисменты.
Уровень biopic. 1953 год, Нью-Йорк. Главный герой — Уильям Ли — это, естественно, сам Берроуз, подписавший таким псевдонимом свой первый роман «Джанки. Исповедь неисправимого наркомана», изданный как раз в 1953 году. В образах приятелей Уильяма Ли — Мартина и Хэнка — легко узнаются главные битники, Аллен Гинзберг и Джек Керуак. Биографические мотивы — наркомания, гомосексуализм, писательство как авторепортаж (отчет) — умело вплетены в сюжетную канву. Местом действия выбран Нью-Йорк, а не настоящая родина битничества и «голубая столица» Америки — Сан-Франциско, но это уже не столь важно. Нью-Йорк пятидесятых, времен владычества Пегги Гугенхайм и Клемента Гринберга, триумфа абстрактного экспрессионизма и бесчинств Джексона Поллока, — не менее почтенный культурный миф. Затем действие переносится в Интерзону, и здесь режиссер не скупится на экзотику Магриба с арабскими кофейнями, восточными базарами, чалмами, чадрами и светлыми костюмами в колониальном стиле — ведь «Обед нагишом» был написан в марокканском Танжере, интеллектуальной Мекке пятидесятых-шестидесятых, городе свободной любви и свободного кайфа. Так что фильм превращается в этакую «экскурсию по местам сражений».
Уровень metatext. Настолько прозрачен, что долгий анализ будет лишним: модный набор общих мест постструктурализма, вроде «сексуализации мышления», «эротического текстуального тела» и «смерти автора», в сочетании с дешевым фрейдизмом и матрешечным имиджем «проклятого» поэта. От текста Берроуза не осталось и следа. То, что на суде над романом Норман Мейлер определил как его главное достоинство — «несовершенство структуры», — в фильме превратилось в стройную конструкцию. Ведь если следовать «принципу монтажа» Берроуза, то картина превратится в сложный авангардистский коллаж, что совсем не входило в планы режиссера. Сочный язык признанного знатока гомо- и наркосленга прорывается в фильм эпизодически, когда агент Уильям Ли вдруг начинает рассказывать истории из своего выдуманного прошлого. Политическая сатира романа сведена к минимуму: лишь последняя сцена (прибытие героя в Аннексию) кажется пародией на западный кинообраз СССР времен холодной войны. И только отдельные имена и мотивы еще напоминают о Берроузе.
«Обед нагишом» будто нарочно сделан в подражание стандартной голливудской кинобиографии, и в отношении легендарного битника такая «деконструкция» выглядит особенно кощунственной — как если бы фильм о Венечке Ерофееве сняли в духе помпезно-примитивных «Анны Павловой» или «Композитора Глинки». В эту китчевую картину аккуратно вмонтированы фирменные кроненберговские приемы, все эти фантастические монстры и зеркальные отражения-повторы эпизодов, отчего «история» просто растворяется в режиссерской иронии.
«Crash» — археология поп-арта
«Автокатастрофа» почти буквально следует своему литературному прототипу. Это и понятно: роман Балларда, вышедший в 1973 г. и сразу же ставший настольной книгой лондонских интеллектуалов, вполне «читабелен» и даже как будто кинематографичен. Сюжет — череда эротических сцен, которые перемежаются сумасшедшими гонками и кровавыми авариями, — так и просится на экран. Только действие из Лондона начала семидесятых Кроненберг переносит в некую неопределенную среду. Благодаря обилию хайвэев и стерильным интерьерам эта среда производит совсем не европейское впечатление и как-то невольно ассоциируется все с тем же Нью-Йорком, но более позднего времени — около «героического» шестьдесят восьмого, эпохи расцвета альтернативных клубов. Впрочем, временной определенности здесь тоже нет, — напротив, на протяжении всего фильма беспокоит чувство какой-то двойственности: то ли дело происходит тогда, когда вышел роман Балларда, то ли перенесено в наши дни — ведь мода семидесятых вернулась как раз в середине девяностых, а дизайн (одежды и автомобилей) вполне нейтрален. Переживший страшную автомобильную аварию кинопродюсер Баллард и его жена Кэтрин попадают в богемную компанию фотографа Воана, где практикуются всевозможные виды совокуплений и инсценируются автокатастрофы. Роман будто специально написан для Кроненберга: кровавый «техносекс», мутации изуродованного в катастрофах, срастающегося с машиной человеческого тела, приводящие к необратимым изменениям человеческой психики, — его излюбленные сюжеты. Поскольку биографические мотивы в книге весьма условны, внимание режиссера переключается на реконструкцию некоего общего «культурного фона». Воан, фотографирующий изувеченных в авариях людей в их искореженных машинах и ставящий опасные для жизни «спектакли» по мотивам знаменитых автокатастроф (например, гибель кумира битнической Америки, бунтовщика без причины Джеймса Дина), — типичный артистический персонаж семидесятых. Сексуальная притягательность автомобиля — сквозная тема поп-арта и перформансов этого времени: глянцевый блеск бамперов на картинах нью-йоркцев в галерее Лео Кастелли, знаменитая «катастрофическая» серия Энди Уорхола, распятый на капоте Крис Берден. Фильм выглядит как hommage поп-артистам, первооткрывателям и эстетам массовой культуры, в которой купается и сам Кроненберг.
«Кафкианский кайф» — удовольствие от текста
Укол тараканьего яда в «Обеде нагишом» сравнивается с «кафкианским кайфом», «литературным удовольствием». Работа выпускника филологического факультета университета Торонто, подвизавшегося несколько лет на TV и лишь в тридцать два года снявшего свой первый кинофильм, — тоже результат наркотического «удовольствия от текста». Этот текст выплескивается на экран бесконечными видеорядами, где наркотический азарт бунтовщиков поколения битников смешан с голливудскими аттракционами, а праотец современной западной литературы запросто выпивает в портовом притоне с монструозным шедевром художника-гримера. И зрителю остается лишь раствориться в потоке кафкианских образов, в котором реальность неотделима от фантастики.
Кроненберг в очередной раз взял на себя роль посредника между университетской библиотекой и экраном телевизора. Фильму «Обед нагишом» предпосланы два эпиграфа. Один — это приписываемые легендарному основателю секты ассассинов Хасану ибн Саббаху слова: «Nothing is true, everything is permitted» (Ничто не правдиво, все позволено). И правда — все относительно и все позволено в мире тотальной визуальности постмодернизма, не позволены только пафос и ригоризм. Интерпретация может быть любой и поэтому не может быть спорной, она не упрощает — она приобщает, мифологизирует, создает культ, популяризирует и т.д. А значит, критика невозможна, потому что любая оценка справедлива, и с ней заранее можно согласиться. Другой эпиграф — высказывание самого Берроуза: «Hustlers оf the world, there is one Mark you cannot beat: the Mark inside» (Ловкачи всего мира, одного вам не одолеть - тот Знак, что внутри). И этот внутренний Знак заставляет упрямо писать свои образы поверх чужих слов, как бы последние тому ни противились. «Певец мутаций» Кроненберг выставил в своем историческом паноптикуме двух забавных уродцев с их извращенной прозой и извращенными жизнями, превратив героев поколения Вудстока в очередной штамп поп-культуры.
Арт-хаусное кино: добровольное осмысление или вынужденное непонимание
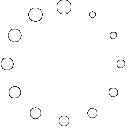
— Комментарий можно оставить без регистрации, для этого достаточно заполнить одно обязательное поле Текст комментария. Анонимные комментарии проходят модерацию и до момента одобрения видны только в браузере автора