А лошадь — как она там, в тумане?.. В конце пути — обещание счастья: самовар, можжевеловые веточки, чай
с малиновым вареньем.
«Мультипликация» или «анимация»? Вопрос не риторический. «Мультипликация» в переводе — банальное умножение, тогда как «анимация» — одушевление.
Юрий Норштейн, с одной стороны, мультипликатор. Чудные сказки — «Лиса и Заяц», «Ежик в тумане»… С другой стороны — аниматор. Одушевляющий рисунок, как Пигмалион мраморную Галатею. Режиссер с международной известностью. Имя Norstein — во всех «ихних» учебниках и словарях.
Фильмография Норштейна, в сущности, невелика. Если не считать дебютных фильмов, снятых в соавторстве с другими мультипликаторами, то выглядит она так: 1973 — «Лиса и Заяц», 1974 — «Цапля и Журавль», 1975 — «Ежик в тумане», 1979 — «Сказка сказок». Последние двадцать с лишним лет режиссер работал над гоголевской «Шинелью» — фрагменты фильма изредка показывались на разных творческих вечерах и полузакрытых просмотрах, и вокруг этого предприятия сам собой стал складываться миф о мастере-затворнике и его неведомом шедевре. Впрочем, и без «Шинели» Норштейн — бесспорный классик.
Фильмов немного, и все они объединены мгновенно узнаваемой интонацией. Один фильм «вырастает» из другого, хотя каждый в отдельности воспринимается совершенно самостоятельно. Словно части сюиты, разделенные и одновременно связанные друг с другом.
Единство стиля сохраняется на протяжении всего времени, что Норштейн работает в мультипликации. Отчасти это объясняется тем, что творческая группа сложилась довольно рано и жила как одно целое: художник-постановщик Франческа Ярбусова, оператор Александр Жуковский, композитор Михаил Меерович. Любимая техника — плоская марионетка, с которой в двадцатые начиналась история советской мультипликации.
Плоская марионетка весьма близка к живописи, но все же выдерживает по отношению к ней почтительную дистанцию. Она находится как бы между объемным и рисованным фильмом, позволяя сохранить ту степень условности изображения, которая составляет саму специфику анимации. Не дает ей стать «нарисованным кино» или «ожившим полотном».
Подражание живописи — то, чего Норштейн никогда не допускает, хотя он, может быть, наиболее «живописный» из отечественных мультипликаторов. Собственно, в самых первых своих фильмах он и шел «от картины». 1968 — «25-е — Первый День» (совместно с Аркадием Тюриным): эстетская лента о начале Октябрьской революции в стилистике буйного авангардного формализма, Маяковский плюс Шостакович плюс Малевич, Петров-Водкин, Альтман и все-все-все. 1971 — «Сеча при Керженце» (совместно с Иваном Ивановым-Вано): патетико-героическая симфония a la Эйзенштейн, древнерусская иконопись плюс Римский-Корсаков. На рубеже 60-70-х в кругу патриарха «Союзмультфильма» Иванова-Вано стилизаторство и эстетство поощрялось: авангард и икона были тогда едва ли не одинаково модны. Но после этих пафосных, блестящих, хотя еще и не вполне самостоятельных опытов появилась своя манера — более аскетичная и более сложная. Исчезли прямые изобразительные цитаты. Анимация осознала свою связь с кинематографом, картина обрела временное измерение, движение.
В одной из статей Норштейн писал, что у зрителя еще не выработалась способность воспринимать мультипликацию. Анимационные картины плохо запоминаются, они живут в нас, только пока мы их смотрим.
Если воспользоваться определением Виктора Шкловского, делившего кино на «прозаическое» и «поэтическое», то анимация Норштейна — безусловная поэзия. Пересказать его фильмы невозможно: это все равно, что пересказывать сонет или сонату «своими словами». В них и вправду много от поэзии и музыки — удивительное чувство ритма, рифмованные узоры. Переклички эпизодов, созвучия кадров, ассоциативный монтаж. Со временем постепенное движение к бессюжетности превратило эпос в лирику: все — о себе, каждый образ — воспоминание. Пространство Мнемозины.
В каком-то смысле Норштейн — художник-минималист. Минимум выразительных средств, скупая графика. Внутренняя необходимость каждого штриха, жеста, плана, как на ксилографии Хиросигэ. Вместе с тем, он — отъявленный максималист. В смысле стремления к совершенству каждой своей картины, каждой ее секунды. Отсюда, отчасти, и двадцатилетняя работа над «Шинелью».
Не совсем детские сказки. Совсем не детские сказки. Фильмы Норштейна не для детей, но все они — воспоминания о детстве.
«Лиса и Заяц». Стилистика — детская книжка с картинками. Каждый кадр в узорчатой рамочке, словно не на экран смотришь, а картинки в книжке разглядываешь. Просмотр возвращает в детство: старый бабушкин диван с валиками, лампа с абажуром, приглушенный свет и сказка на ночь…
Сказка народная, в литературной обработке Владимира Даля — и рисунок стилизован под нечто фольклорное: то ли кружево, то ли роспись по ткани или резьба по дереву. Сюжет незамысловат: 10 минут экранного времени необходимо наполнить действием, драматизировать. Бог в деталях — и появляются маленькие трогательные подробности, action по-норштейновски. По весне в своей лубяной избушке переодевается Зайка в новую рубашонку: глянул «в объектив», застеснялся, задернул занавесочку. Вокруг таких деталей нередко выстраиваются образы героев: из плетения веночка вырастает добродушно-сентиментальный Топтыгин.
Страшно или не страшно? Серый Волк в темном лесу с ножом и вилкой наперевес — не страшно. Страшно — бессилие и отчаяние. Страшно — тоскливый гулкий звук жестяной лохани, которую в сердцах пнул Зайка. Маленькая сказка о большой беде — маленькая трагедия. «Достойно ли души терпеть удары и щелчки обидчицы-судьбы, иль лучше встретить с оружьем море бед и положить конец волненьям?». Шекспировские страсти, конечно, не вяжутся с советским образом жизни.
И обязательный по законам жанра happy end звучит как марш во славу активного сопротивления. Впрочем, это все-таки мультфильм, и слишком громкие аналогии здесь не вполне уместны. Границы сказочного всегда бережно сохраняются: страшное и болезненное остается внутри нас, а на экране — только юмор, чуть смягченный иронией. Эзопов язык этого времени — язык притч и метафор. Или сказки, ведь на дворе структуралистские семидесятые с их неослабевающим интересом к фольклору.
«Цапля и Журавль». Снова народная сказка, и снова — не совсем детская. Не сложилось, не заладилось у Журавля с Цаплей. Да и как могло что-то сложиться в этих чеховских декорациях: руины старинной усадьбы, классические террасы и портики с раскрошившимися колоннами. И рисунок под стать сценографии — монохромность гризайли. Поэтика руин, разрушения и сырости — столь знакомая любовь-жалость к обшарпанному, заброшенному нерадивыми властями классицизму. Старые усадьбы, темные аллеи, капоры и шали, плетеные кресла, качели… Уходящая натура, ностальгия по «прошлой жизни». Счастье жило здесь раньше, а теперь поселилась мечта о нем. И вторжение чуда в виде фейерверка — далекий, чужой праздник. И опять любование узорами: кракле на старинном камне, решеток и ветвей, камыша на озере. Голос Иннокентия Смоктуновского за кадром — воистину «голос эпохи», образ печали и достоинства. Буржуйка и зонтик — осеннее настроение, любовное настроение. Жизнь проходит сквозь пальцы желтой горстью песка…
В «Ежике в тумане» повествование почти разрушено, оно претворилось в сон, и сказочный привкус здесь уже почти не ощущается. Сном забыться. Уснуть. И видеть сны… Уйти в себя, в свое пространство и время — пространство воспоминания, время сна. В детстве самые яркие страхи: все вокруг кажется огромным — Сова, Улитка, Летучая Мышь; все вокруг кажется живым — туман, вода, дерево… Что-то жуткое и большое надвигается на тебя из темноты… Забыть детские страхи… Блуждать в тумане… Считать звезды: справа от трубы звезды Медвежонка, слева — Ежика. Остаться наедине с собой, наедине с природой. Войти в ее храм подобно тому, как Ежик со свечкой-светлячком входит в готический собор погруженного в дымку леса. Это особое, «укрупненное», зрение — когда гигантский падающий лист, туман и отражение в воде воспринимаются как самостоятельные персонажи фильма. Такое зрение было у Николая Заболоцкого, видевшего в лесу заячьи хороводы и читавшего по лицам коней. А лошадь — как она там, в тумане?.. В конце пути — обещание счастья: самовар, можжевеловые веточки, чай с малиновым вареньем. Тоска по уюту. Частная жизнь, заявляющая о своем праве на эту частность. На частное, не коллективное детство. На частную, не коллективную память.
Инерция памяти вызывает закономерное движение вспять: от сказки — к колыбельной. В 1984 г. в Лос-Анджелесе «Сказка сказок» была названа «лучшим анимационным фильмом всех времен».
Жанр фильма принято определять как «поток сознания», вернее, поток воспоминаний. Все из коммунального военного и послевоенного детства в Марьиной Роще. Структура музыкальная, как в рондо: начинается с яблока, яблоком и заканчивается. Яблоко визуально рифмуется с материнской грудью и надувающейся щечкой сосущего младенца. И возникает колыбельная, а с ней — Серенький Волчок. Волчок с пронзительными, безумно жалостливыми глазами. Глаза тоже из жизни, со случайно найденной фотографии чудом спасенного от утопления котенка. Фильм соткан из музыки, его лейтмотивный ряд состоит из самых разнообразных мелодий (от простой колыбельной до акустических изысков Мееровича, от Баха и Моцарта — до танго «Утомленное солнце»). Каждая из них соответствует определенному набору эпизодов. «Утомленное солнце» возникает в самом знаменитом эпизоде — на танцплощадке. Возвышенный Бах сопровождает сцены у Лукоморья с нескладно высоким, хрупким Поэтом, плутоватым Котом Ученым и семейством Рыбака. Моцарт — зимний парк, где розовощекий Мальчик кормит яблоком ворон. Звуковая симфония: шум шоссе, проносящийся мимо поезд, кто-то заколачивает досками окна, кто-то заводит машину… Кроме музыки — живопись. Ослепительный свет рембрандтовских офортов. Суровые пейзажи Митурича. Кормящая младенца мать, Мадонна. И, конечно, поэзия. Пушкинские мотивы: у Лукоморья дуб зеленый — колыбельная, сказка — Арина Родионовна — осенняя грусть. Поэзия, перерастающая в живопись и уходящая в музыку: совершенный синтез искусств.
Образы, всплывающие из прошлого. Или из подсознания? Здесь с наибольшей отчетливостью проступает сюрреалистическая природа анимации. Недаром сценарий вместе с режиссером писал самый «сверхреальный» автор этого времени — Людмила Петрушевская. Девочка, прыгающая через скакалку с Бычком, этаким добрым Минотавром. Чудо-рыба, то ли плывущая, то ли парящая в море-океане. Сюрреализм Норштейна — сюрреализм обыденности, без натужно-фрейдистских подтекстов. Временами трагический: исчезновение танцующих, их уход на войну, летящие похоронки. Временами — окрашенный горькой иронией: превращение замусоленной шляпы Пьяницы в наполеоновскую треуголку. Вернуться в детство: качаться на большой резной педали швейной машинки «Зингер», печь картошку на костре, обламывая глазки. Эпизоды нанизываются на общий стержень, стержень памяти.
Не вполне мультипликация — скорее, анимация.
Юрий Норштейн становится в один ряд с гениальными аниматорами-одиночками. Прежде всего, вспоминается одно русско-французское имя — Александр Алексеев (1901–1982), изобретатель «игольчатого экрана», техники, благодаря которой фильм делается похожим на оживший офорт… Но сам художник предпочитал сравнивать свои игольчатые фильмы с поэмами. Правда, Норштейна, в отличие от Алексеева, не особенно увлекает техническая сторона анимации. Его эксперименты — не из области технологии. Однако есть и явные биографические совпадения. Оба сделали не так уж много фильмов: каждое их произведение — «штучный товар». Оба боготворят Гоголя (одно из самых знаменитых творений Алексеева — «Нос» 1963).
Алексеев эмигрировал из России во Францию и до сих пор плохо известен на родине. В последние годы Норштейн тоже оказался (в переносном смысле) художником-эмигрантом. «Там» его сейчас знают едва ли не лучше, чем «здесь». Когда в последний раз наше ТВ показывало хотя бы «Лису и Зайца»? Записи его фильмов проще купить в Штатах, чем в Москве или Петербурге.
И не то чтобы он обделен славой и признанием — всевозможных призов не счесть, «тутошних» и «тамошних». Но смотреть его фильмы хочется не всем и не всегда: слишком сложно, слишком серьезно и как-то депрессивно. Корни этой вынужденной «внутренней эмиграции» кроются отчасти в безнадежном «семидесятничестве» режиссера.
В конце теперь уже прошлого века 70-е вошли в моду, в прямом (джинсы клеш и country-style) и переносном смысле. Сам по себе стал складываться обывательски уютный образ золотого десятилетия. Образ безмятежности, сытости и защищенности — удобный, согревающий. Но была и другая сторона эпохи.
«Семидесятнический» модернизм по эту сторону железного занавеса отличала трагическая серьезность, не всегда понятная поигравшему в 1968 год и в целом успокоившемуся Западу.
Семидесятые — это «Зеркало» и «Сталкер» Тарковского, это «Пейзаж после битвы» и «Без наркоза» Вайды, это полки и спецхраны, бульдозеры и психушки. Это строгий, протестантский канон, провозглашенный в «Зеркале» — Бах и Брейгель. Это жесткий моральный кодекс, непродажность — политическая и коммерческая.
Ну, нельзя же, в самом деле, все время держать зрителя в напряжении, он тоже хочет отдохнуть, развлечься. И «семидесятник» пришелся не ко двору. «Неприспособленчество» оказалось теми граблями, на которые он вторично наступил в 90-е. Сделайте нам красиво и не слишком серьезно — хотим игры, адреналина и легкого юмора. Но как только возникает желание подлинности и неспешности, вспоминаются Ежик, Медвежонок, а еще — Лошадь. Как она там, в тумане?..
Андо Хиросигэ (1787 или 1797-1858) — японский график. Крупнейший представитель направления укие-э, мастер цветной ксилографии, Андо Хиросигэ разработал новый для японского искусства тип камерного, проникнутого тонким лирическим чувством пейзажа; виртуозно передавал зыбкие, преходящие состояния природы, атмосферные эффекты снега, тумана, дождя (серии «53 станции Токайдо» 1833-1834, «36 видов Фудзи» 1854-1858 и др.). Он работал также в жанре «цветы-птицы» (серия «Ласточки и камелии в снегу», около 1830). Искусство Андо Хиросигэ, ставшее известным в Европе во 2-й половине XIX века, существенно повлияло на творчество пейзажистов — представителей импрессионизма и постимпрессионизма.
Гризайль (от франц. gris — серый) — монохромная живопись; живопись, выполненная в оттенках какого-либо одного цвета, чаще всего серого.
Сделайте нам красиво и не слишком серьезно — хотим игры, адреналина и легкого юмора.
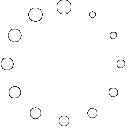
— Комментарий можно оставить без регистрации, для этого достаточно заполнить одно обязательное поле Текст комментария. Анонимные комментарии проходят модерацию и до момента одобрения видны только в браузере автора